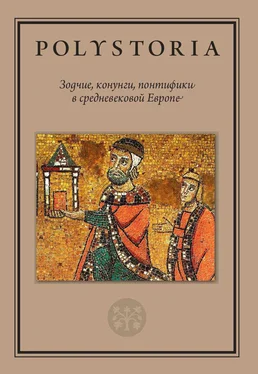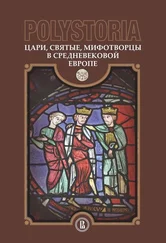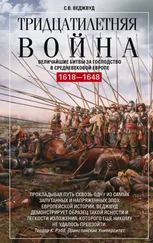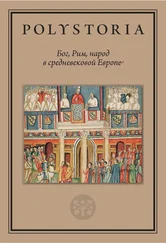Афру красою сполна наделила природа, к убранству
Девушки руку свою ма́стерскую приложив.
Пусть и рожденьем низка, и бедна, но изящная внешность
Все недостатки ее спрятать сумела от глаз.
Скудости не устоять пред красотою, а низость
Рода искупится тем даром, что выше всех благ.
Гребень кормилицы не тревожит космы златые,
Воле своей лишь они отроду подчинены [422].
Сладкая нежность в лице девушки взгляд наш пленяет,
Будто бы книги зачин приятной читаешь на лбу.
Мягкая брови черта над глазами ее пробегает,
Места не больше заняв, чем полагается ей.
Щеки не красит она: чтоб не чахла под пу́рпуром кожа,
Уст уж багрянец готов сразиться с их белизной.
Нос не стремится ни вниз, ни вверх против меры загнуться,
Путь серединный избрав, обеих избегнул он бед.
Светятся очи, меж тем как слегка приподнялись в улыбке
Губы: алеет на них пу́рпура вечный огонь.
Шея снега белей, и — кости слоновой светлее —
В месте достойном свое зубы жилище нашли.
Чтобы законных границ не превысила выпуклость, меру
Знает положенную и совсем не высокая грудь.
В росте средины благой все так же держится: низкой
Или высокой ее фигуру не назовешь.
Благо какое, какой мед, сколько счастья сокрыто
Здесь и услад, о том лик добрую весть нам несет:
Тот, кто прочтет на лице выразительном знаки, — блаженный,
Если ж кому-то дано коснуться того, что узрел,
Если сокровище то ласкать, обнимать, целовать он
Может, к счастливцам его нужно уже отнести [423].
Перед нами именно «описание красоты», descriptio pulchritudinis, одновременно зачин большого литературного произведения со своей фабулой конфликта (где красавица Афра, жена крестьянина Милона, конечно, не откажет ухаживаниям короля) и обладающий собственной внутренней структурой и собственной поэтикой портрет [424]. Его «рама» — первые и последние строки. В начале мы узнаём, что красота сильнее фортуны, а в конце снова возвращаемся к ней же, представляя себе среди счастливцев, fortunati, счастливого обладателя только что красочно описанного сокровища. Портрет, далекий от того, что опять же мы склонны были бы сейчас назвать индивидуальным, написан средствами риторики, которыми Матвей, ученик Бернарда Сильвестра, владел едва ли не так же совершенно, как и учитель. В 20 строках мы найдем игру слов, в которой сама непередаваемая в переводе звукопись (вроде colit ora color) становится аргументом, и типичные топосы античной литературы, прежде всего Овидия, уже ставшего к тому времени magister amoris, и память о «Песни песней», и благодарность природе за даруемую миру красоту — мотив, пришедший тоже в XII столетии и возведший ее в ранг богини в литературе и искусстве [425]. Приемы «подробного описания», «с головы до пят», сочетаются с кратким каноном, где к чертам лицам присовокупляются две-три заметные детали, вроде шеи, руки, груди, вроде овидиевской Коринны [426], т. е., говоря на языке живописи, нечто подобное оплечному портрету. Канон утвердился на школьном уровне, о чем свидетельствует и написанная около 1175 г. в Париже или Туре «Наука стихотворческая» самого Матвея, и близкая по времени и жанру «Новая поэтика» Гальфреда Винсальвского [427].
Тем не менее, при всей «типичности» приведенного отрывка, от нас не должна ускользнуть его важность, выводящая его за рамки собственно литературной истории. Во-первых, до XII в. такие описания красот, женских или мужских, в средневековой литературе встречаются крайне редко. Во-вторых, само их появление и быстрое распространение на Западе не объяснимо только литературными вкусами и только куртуазностью: тот же Овидий, ставший, как верно отмечалось [428], образцом для подражателей всех времен, был кладезем образности, но у него не найти каталогов. Между тем именно каталог, педантичный список качеств и форм, добродетелей и пороков, становится в XII столетии популярным выразительным средством. За этими новыми особенностями литературной поэтики стоит новая или, если угодно, обновленная антропология. В литературе, всегда и везде живущей фабулой и конфликтом, который фабула призвана либо разрешить, либо, напротив, оставить не разрешенным, человеческая красота становится мотивом, «аргументом». Неслучайно Матвей говорит о том, что лицо Афры «пророчествует» («vultus esse propheta potest»), о «знаках» (signi), которые читатель призван вычитать, расшифровать на facies argumentosa, что я условно передал как «выразительное лицо». Лицо обращается к нам, аргументирует, пророчествует, являет. Читателя призывают быть физиогномистом, если он хочет чего-то добиться и чего-то дознаться. Тот же Матвей во влиятельной впоследствии «Науке стихотворческой» различает описание внешнее и внутреннее: «Следует заметить, что одного и того же человека можно описать двумя способами, снаружи и изнутри. Снаружи описывается красота членов, внешний человек. Внутреннее же описание, для прославления или же для осуждения, обращает внимание на внутренние особенности человека: разум, вера, терпение, честность, несправедливость, гордыня, сластолюбие и другие характеристики внутреннего человека, то есть души» [429].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу