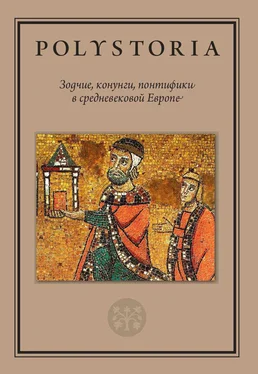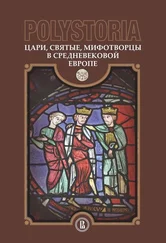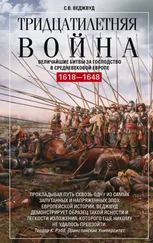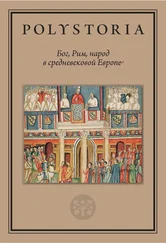Бернард Сильвестр, крупнейший поэт середины века, был также философствующим и богословствующим «антропологом»: его творчество — поэтическое размышление о природе человека и его месте в системе мироздания. В небольшой поэме «Астролог» («Matematicus») он вывел в качестве главного героя вовсе не астролога, а прекрасного римского юношу, которому звезды предначертали одновременно быть лучшим и худшим из людей: мужество и добродетели возведут его на римский трон, но он должен стать отцеубийцей. Получив такой «гороскоп» при рождении долгожданного отпрыска, убитые горем родители называют его Отцеубийцей, надеясь, что имя окажется оберегом. Но звезды ведь не лгут, а Бернард выступает здесь, в фабуле, настоящим адептом астрологии. Будучи по замыслу автора совершенным во всем, «новым человеком», Отцеубийца на пике славы узнаёт о предначертанном, ради жизни отца и — добавим — ради спасения свободы человека перед лицом рока [430]решается на самоубийство, но поэма прерывается, не разрешив конфликта, оставив решение за читателем. Напомню, за христианским читателем XII столетия!
Не вдаваясь сейчас в детали этого непростого произведения [431], отметим, что «Астролог», чистая литературная фикция, связан своей проблематикой с главным космологическим сочинением Бернарда — «Космографией». Это уже не только фабула, но и поэма о творении, философский эпос, сочетающий поэзию в трех размерах со сложной ритмизованной прозой. Вторую половину ее, «Микрокосмос», занимает удивительный рассказ о сотворении человека и подробное описание его тела. В «Астрологе» настоящий каталог достоинств и личных достижений не спасает Отцеубийцу от удара судьбы, с которой ему приходится выйти на состязание. В «Космографии» такой же подробный каталог всех составляющих человека как микромира и венца творения, как и удивительный рассказ о том, как три «богини» — Природа, Физис (скажем так, «природа-ремесленница») и Урания — творят человека, точно так же не обеспечивая это совершенное творение заранее запланированным спасением. Скорее наоборот: уже в описании земного рая, с его журчащими ручейками, звучит напряженная нота, напоминающая о том, где произошло Грехопадение:
По безмятежным лесам змейкой игривой струится,
Быстро меняя свое направленье, прозрачный ручей:
Корень древесный ему иль мелкая галька преградой
Станут — с журчаньем вперед легким стремится волна.
Этот, мне мнится, приют, влажный, цветистый, когда-то
Первый нашел человек, но гостем недолго здесь был [432].
В этой высокой, по сути гуманистической литературе достоинство человека поднято очень высоко. Физис, как уверяет нас автор в предисловии, из четырех элементов «создает человека и, начиная с головы, член за членом, счастливо завершает свой труд в ногах». Место и роль человека в мире амбивалентны, и вопрос о его свободе у Бернарда не решен. Вместе с тем характерно, что и космогония его, и антропология используют схожую физиологическую лексику: если описание человека в «Мегакосмосе» завершается не ногами, как следовало ожидать, а гениталиями, то рождение мира тоже описывается как муки и радости, которые претерпевают вполне реальные действующие персонажи: Мать-Сильва, Нус-Разум (в латинском оригинале — существо женского рода), Энделихия, истосковавшаяся по красоте и порядку Природа, наконец, сам плачущий в колыбели младенец-мир.
Мы должны отдать себе отчет в том, что эта поэзия, как и сопровождающая ее ритмизованная проза, звучит сегодня намного тяжеловеснее, чем в XII столетии: не говоря уже о трудностях перевода, мы без специальной подготовки не улавливаем игры риторических фигур с аллюзиями на старых и новых властителей дум того времени, от Платона с его «Тимеем» и Овидия до герметического «Асклепия» и первых сводов знаний по астрологии вроде «Большого введения» Альбумазара. Даже когда свои персонификации выводили на сцену такие сложные, иногда заведомо темнящие авторы, как Бернард или Алан Лилльский, их фигуры не были сухими абстракциями, потому что абстракции не плачут и не радуются, они не жестикулируют, у абстракций вообще отсутствует выражение лица. На глазах у читателей и зрителей мир оказывался наполненным действующими лицами, превращавшими и космологию, и космогонию в настоящую драму. Бернард тактично вывел Творца из труппы, наделив его ролью «режиссера», что породило во времена Жильсона, Льюиса и Курциуса бесконечные и длящиеся по сей день споры о «языческой» и «христианской» составляющих его картины мира [433]. Деистом, однако, не был ни он, ни его многочисленные последователи, создававшие новую картину мира средствами литературы. Гильом де Лоррис, великий последователь Бернарда Сильвестра, в 1230 г. счел своим долгом в буквальном смысле слова изобразить всех своих персонажей, от Ненависти до Бедности, в виде фигур на стене сада, «во злате и в лазури» [434]. Его читатель, вслед за автором, должен был именно видеть эти фигуры, внешний облик которых, по мысли автора, соответствовал их характерам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу