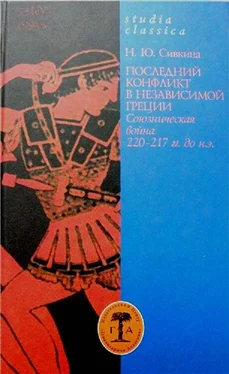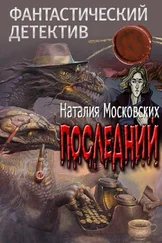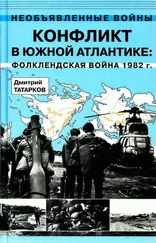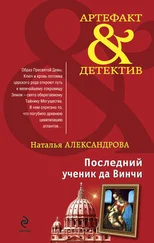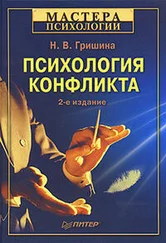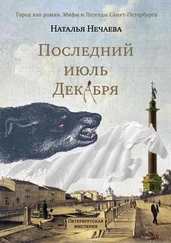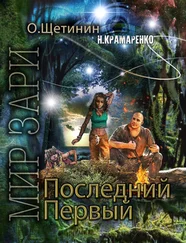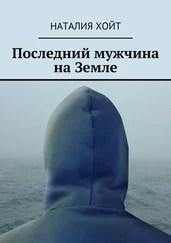Не следует забывать и еще один важный вектор политики македонского царя в этот период: он считался с условиями Общего Мира, включенными в договор Эллинской лиги [443]. Одно из условий оберегало автономию греческих государств. Конечно, в условиях войны говорить о соблюдении автономии нелогично. Филипп, естественно, нарушал этот пункт соглашения [444], но он был вынужден постоянно оглядываться на реакцию других участников Эллинской лиги, особенно на Ахейский союз, поскольку все члены лиги были довольно независимы от центральной власти. Именно поэтому царь пытался придать своим шагам более или менее легитимный вид, объясняя свои шаги условиями военного времени. Но он никогда не прибегал для этого к интригам и не вмешивался во внутренние дела других — тем более вышедших из союза — государств. Таким образом, нет достаточных оснований для утверждения, что македонский царь мог оказать Хилону какую-либо поддержку.
Относительно Арата можно говорить то же самое. Несмотря на то, что Арату приходилось организовывать государственные перевороты [445], его участие в спартанских событиях весьма сомнительно. Стратегом был в то время его сын, Арат Младший, который в первую кампанию думал лишь о сборе наемников. У него не было сил даже на оказание помощи подвергшимся этолийским атакам ахейским городам (Polyb., IV, 37 и 57–60). Зимой же 219 г. он участвовал в боевых действиях, организованных Филиппом. Причем эта кампания была полной неожиданностью не только для врагов, но и для союзников (Polyb., IV, 67, 6). Едва ли у стратега была возможность в таких обстоятельствах готовить переворот в Спарте. Что касается Арата Старшего, то в его распоряжении не было ни финансов, ни военных сил для содействия путчу.
Считать же Хилона проахейски настроенным также не следует. Во-первых, провозглашенные им планы социальных преобразований, хотя они и не были внедрены в жизнь, не соответствовали ахейскому политическому курсу — ахейское руководство было противником подобных реформ. Во-вторых, видные спартанские сторонники Эллинской лиги были убиты в прежних смутах (Polyb., IV, 22–23). Если роль Хилона в государственной жизни была незначительной, то Арат мог о нем вообще не знать. Но в таком случае Хилона нельзя считать проводником ахейской политики. В-третьих, бегство в Ахайю также не является аргументом в пользу его политической ориентации. Дело в том, что в ходе войны ему ничего не оставалось, как бежать в Ахайю и просить убежища у врага Спарты. Поэтому гораздо ближе к истине утверждение о том, что он пытался организовать переворот в личных целях, желая стать царем.
Вполне допустимо предположение, что на переворот его подтолкнул пример самого Ликурга, чьи права на трон были сомнительны. Кроме того, на момент прихода к власти Ликург также не пользовался поддержкой ни одного определенного социального слоя или политической партии. Примечателен тот факт, что сам царь в момент смуты предпочел скрыться; вернулся он только после бегства Хилона (Polyb., IV, 81, 7; V, 5, 1). Ликург не предпринял никаких мер, чтобы подавить путч. Весьма вероятно, что он, как никто другой, понимал переменчивость удачи, поэтому не стал испытывать судьбу и бежал. Последнее явно свидетельствует о непрочности его собственного положения.
Во многом попытка Хилона захватить власть была обречена на провал именно вследствие бегства царя. Ведь несмотря ни на что, пока Ликург был жив, он оставался законно избранным царем Спарты. Физическое устранение царя давало Хилону шанс занять его место и следовать выбранным Ликургом курсом. В сложившейся ситуации сопоставление обещаний узурпатора с реальными делами законного царя было не в пользу Хилона. Таким образом, компромисс Ликурга с партией клеоменистов позволил царю преодолеть этот политический кризис. Хилону нечего было противопоставить и военным шагам царя. Поэтому, несмотря на свою непрочную позицию в государстве, Ликург сумел сохранить власть.
Однако уроки из этого переворота, во всей видимости, царь извлек. С одной стороны, поведение народных масс убедило Ликурга в правоте избранной им политики, но с другой — это понимание привело к обратному результату. Царь допустил ошибку, полагая, что располагает поддержкой народа и поэтому его власти более ничто не может угрожать. Он забыл о непостоянстве народных симпатий и о том, что настроения широких слоев населения требуют особого внимания политика. Последствия пренебрежения этим правилом быстро сказались. В следующем году в Спарте вновь разразился кризис власти. Эфоры получили донос, что Ликург затевает переворот. Они собрали молодежь и ночью пришли к дому царя. Однако Ликург был предупрежден и успел бежать в Этолию (Polyb., V, 29, 8–9). Вернулся он лишь на следующий год, летом 217 г., когда была обнаружена лживость доноса (Polyb., V, 91, 1–2).
Читать дальше