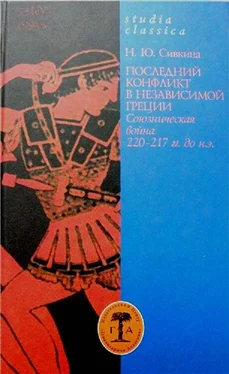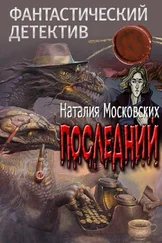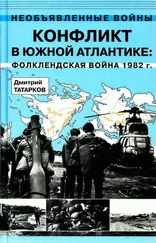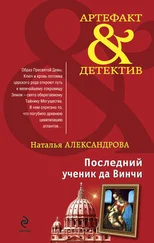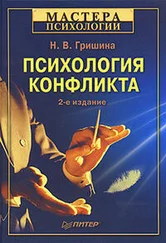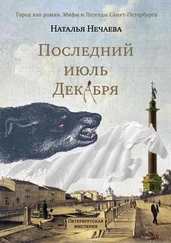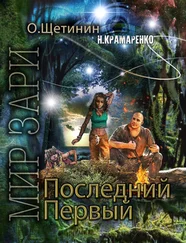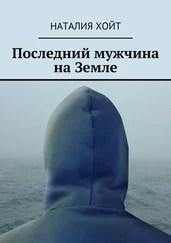Спартанская кампания требовала других сил, здесь не было необходимости идти «налегке». Принимая во внимание вероятность крупных столкновений со спартанцами, Филипп использовал гораздо более значительные подкрепления. Для акции в Спарте он к уже находившимся у него войскам присоединил ахейское ополчение, находившееся в это время в Teгee. Численность его также неизвестна. Однако, привлекая косвенные данные о других кампаниях, можно предположить, что речь шла о 3.000 — 5.000 человек [369]. Кроме того, должно было подойти мессенское ополчение — еще около 2.000 человек, — но оно опоздало к месту сбора. Возможно, и другие государства предоставили царю своих солдат, поскольку Полибий указывает, что Филипп рассылал приказ о сборе войска по всем союзным городам. Приблизительный подсчет показывает, что македонский царь располагал войском численностью около 12.000 солдат.
Следующий тактический прием, применение которого явилось залогом военных успехов молодого царя — это понимание им того момента, когда следует ограничиться достигнутым результатом. Филипп продемонстрировал знакомство с этим правилом. Он вполне четко отдавал себе отчет в том, что не может долго задерживаться в Ферме. Придти в Этолию было легко, но нужно было еще уйти из нее, тем более с добычей. Поэтому в Ферме армия провела лишь сутки (Polyb., V, 8, 8). Неудивительно, что с собой солдаты забрали лишь самое ценное, а все остальное предпочли поджечь. Характерна еще одна деталь: солдаты в пылу погрома не тронули статуй богов или посвященных богам, помня, вероятно, о царском приказе.
Так же обстояло дело и в Спарте. Царь не стал осаждать ее после разгрома Ликурга (Polyb., V, 24, 6–7). По мнению Б. Шимрона [370], причина кроется в том, что спартиаты были достаточно сильны, а общий характер войны не требовал нападения на город. Однако в вопросе о силе спартанцев можно возразить исследователю. Армия Ликурга ничем примечательным в эту войну не прославилась — она только что была разбита македонянами. Спартанцы не отважились на открытое генеральное сражение на следующий день после первого поражения. Вероятно, объяснение этому может быть одно: они знали, что новая битва на равнине принесет им очередной провал, поэтому и готовились до конца отстаивать родной город. В случае штурма Филиппу пришлось бы очень тяжело; результат осады невозможно было предугадать.
Хотя наши рассуждения носят несколько гипотетический характер, в одном можно не сомневаться: царь осознавал, что ему придется потратить много времени и потерять много сил на штурм Спарты, а исход предприятия может оказаться неудачным. В таком случае все его достижения в этом сезоне будут перечеркнуты последней катастрофой. Решение покинуть спартанские земли, с точки зрения военной теории, выглядит вполне оправданно: он ушел как победитель, устрашивший врага. Есть еще одно обстоятельство, которое Филипп вполне мог предвидеть, понимая недовольство населения спартанским царем. Успешные действия македонской армии спровоцировали в Спарте правительственный кризис. Из-за обвинений, выдвинутых против него, Ликург предпочел бежать из Спарты в Этолию (Polyb., V, 29, 8–9). Таким образом, Спарта была не только разорена, но и осталась без командующего (подозрения с царя были сняты лишь в следующем году).
Что касается обвинений в адрес Филиппа по поводу столь варварского грабежа в Ферме [371], то Полибий приводит официальное оправдание такому поведению — месть за разорение этолийцами святилищ в Дионе и Додоне. Правда при этом, как всегда, он сводит все, в конечном итоге, к характеру царя и дурному влиянию на него Деметрия Фарского (Polyb., VII, 14, 3). Конечно, идеологическое обоснование такому поступку должно было существовать, и, согласно македонским представлениям, Филипп поступил вполне справедливо. Как Скопас в Дионе и Доримах в Додоне жгли портики, уничтожали священные предметы, опрокидывали изображения царей (Polyb., IV, 62, 2; 67, 3), так и Филипп поступил в Ферме.
Греческая история IV–III вв. пестрит примерами упадка нравов. На первый план давно вышло равнодушие к гражданскому долгу, угодничество, продажность. Хорошо известны примеры необычайной лести афинян Деметрию Полиоркету и Антигону Одноглазому [372]. Когда Фламинин в 197 г. обнаружил некоторую снисходительность по отношению к Филиппу, этолийцы могли объяснить этот поступок только подкупом римского командующего (Polyb., XVIII, 34, 7). Скопас ограбил храм Артемиды в Кинефе, в Дии были уничтожены священные предметы. Но по возвращении в Этолию народ не только не признал его нечестивцем, но взирал на него, как на доблестного мужа (Polyb., IV, 18; 19, 4; 62). Полибий жалуется на бесчестность должностных лиц, заведующих общественными делами (VI, 56, 13). Ликург в Спарте «за пять талантов, розданных пяти эфорам, купил царское достоинство и генеалогию от Геракла» (Polyb., V, 35, 14–15).
Читать дальше