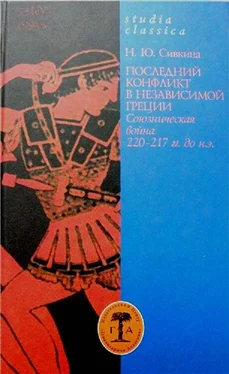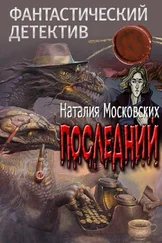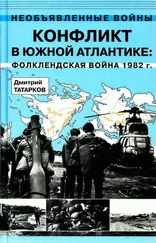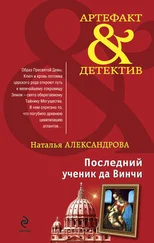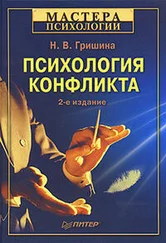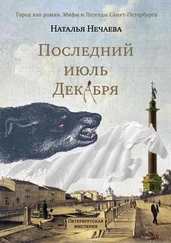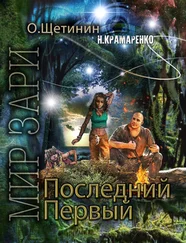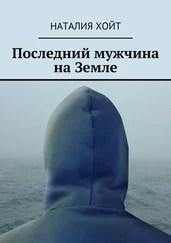Решение синедриона о войне было дополнено еще одним постановлением. Оно гласило (Polyb., IV, 25, 6–7): «Каждому союзнику, у которого этолийцы со времени смерти родного отца Филиппа, Деметрия, отняли землю или город, все прочие обязаны помогать в борьбе за возвращение отнятого; равным образом союзники обязаны восстановить исконные учреждения у тех, которые силою обстоятельств вынуждены были вступить в Этолийский союз, дабы они владели своими полями и городами, избавлены были от содержания у себя гарнизонов и от дани, жили независимо по исконным законам и установлениям». Вероятно, Полибий видел этот декрет — его фразеология предполагает это [203]. Указанная псефизма примечательна своей неопределенностью. Союзники решили возвратить потерянные со смерти Деметрия II, т. е. с 229 г., города и земли. Эпир, например, потерял Амбракию и Амфилохию; Фессалия — Фтиотийскую Ахайю. Однако союзники могли претендовать и на земли, потерянные ранее, и как насильственно захваченные могли быть признаны: для Акарнании — области к западу от Ахелоя, где Этолия владела Стратом и Эниадами, для Фокиды — западная ее часть, которая была в руках этолийцев с 258 г. и т. п. Кроме того, провозглашалось освобождение тех государств, которые не имели никакой связи с членами симмахии, что, вероятно, было нацелено на развал Этолийской федерации. Третий пункт программы касался Дельфийской Амфиктионии, которая находилась под этолийским контролем [204].
Это святилище играло важную роль не только в религиозной, но и в политической жизни эллинов, а этолийцы, таким образом, могли реально влиять на судьбу всей Эллады [205]. Союзники постановили «оказать помощь амфиктионам в восстановлении своих законов и в возвращении под свою власть святилища…» (Polyb., IV, 25, 8). Однако утверждение некоторых исследователей [206], что союзники надеялись преобразовать войну в «Священную», за освобождение Дельф, сомнительно. Вероятно, имелся в виду обратный этолийской экспансии процесс. Прежде, присоединяя территории какого-либо государства, Этолия забирала их голоса в Амфиктионии. В случае успеха в Союзнической войне, освобождении многих земель и серьезном ослаблении противника, победители могли потребовать возвращения своих голосов в совете амфиктионов. Таким образом, поставленные задачи были весьма обширными и рассчитанными на распад федерации противника.
Военные действия начались лишь на следующий год, весной 219 г. Поэтому, хотя и принято говорить, что война длилась с 220 по 217 г., на практике она продолжалась с весны 219 до конца лета 217 г., при этом последний военный сезон был гораздо менее интенсивным, чем первые.
Откладывание боевых действий было вызвано процессуальными моментами. С одной стороны, весной в Ахейском союзе должен был смениться стратег; координировать совместные действия было логичнее уже с ним. С другой стороны, всем государствам лиги требовалось время на мобилизацию вооруженных сил, укрепление линии обороны и прочие такого рода действия. Немалую роль играл еще один фактор. Поскольку Эллинская лига была призвана сохранять мирное состояние дел в Греции и ее договор стремился предотвратить попытки использовать союз в интересах одного государства для решения частных конфликтов, то, видимо, можно говорить о сложной процедуре оформления начала войны.
В нашем распоряжении есть некоторые замечания Полибия по этому поводу. Однако их совершенно недостаточно, чтобы представить ясную картину происходившего. Поэтому представляется вполне оправданным привлечь данные, относящиеся к существовавшим ранее Коринфским лигам Филиппа II и Антигона Одноглазого. В целом, институты всех трех союзов были одинаковы. Каждый из этих союзов возглавлялся гегемоном, в роли которого выступал сам македонский царь. Существовал представительный орган — синедрион или общий совет, в который союзники посылали своих представителей. Между этими объединениями довольно много схожих черт в структуре, организации, управлении, хотя имеются и отличия. Именно в силу этого обстоятельства любое наше предположение, конечно, является гипотетическим. Тем не менее привлечение этих материалов остается единственной возможностью восстановить имеющиеся в нарративных источниках лакуны.
Эллинская лига объединяла значительную часть Греции и приблизительно соответствовала по масштабам существовавшей ранее Эллинской лиге 302 г., даже учитывая «особое», неравноправное положение некоторых ее членов. Однако, основным отличием было то, что членами Эллинской лиги 224 г. стали, в основном, не отдельные полисы, как прежде, а федерации. Все участники были не только более деятельны и активны, чем в Коринфских союзах прошлых лет, но и более самостоятельны в отношении к центральной власти [207].
Читать дальше