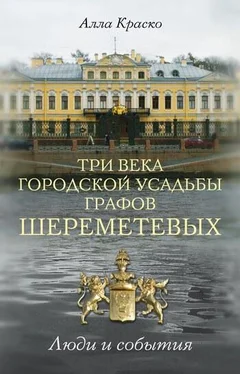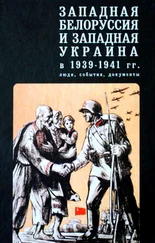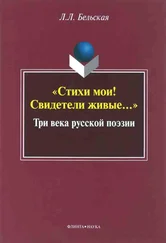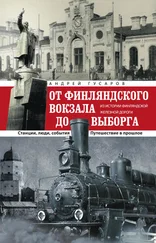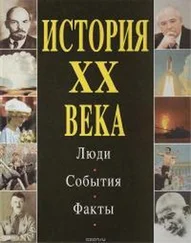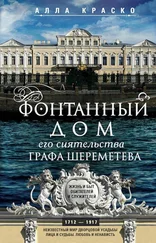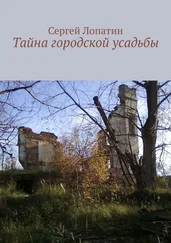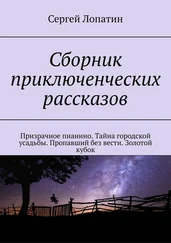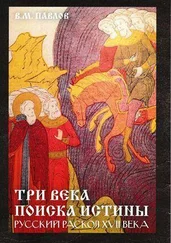Платонов был членом Археографической комиссии, возглавляемой графом Шереметевым, во главе которой Сергей Федорович встал в 1918 году. Он же сменил графа Сергея Дмитриевича и на посту главы переименованного Комитета попечительства о русской иконописи. В первые годы советской власти Платонов участвовал в организации архивного дела, возглавлял Археологический институт, был директором Пушкинского Дома Академии наук, работал в библиотеке Академии наук. В 1930 году его арестовали по так называемому Академическому делу, вместе с другими представителями старой профессуры обвинили в создании контрреволюционной монархической организации и выслали на пять лет в Самару, где ученый и скончался.
После начала войны с Германией граф С.Д. Шереметев, как и всякий русский патриот, внимательно следил за ходом военных действий. О том, что происходило на фронтах, он узнавал во время заседаний Государственного совета, из разговоров с информированными людьми, из газет. На фронте находился его сын граф Павел Сергеевич, письма которого как непосредственного участника и очевидца событий проливали свет на истинное положение дел. Настроение графа Сергея Дмитриевича, человека уже пожилого и не очень здорового, судя по письмам, менялось в зависимости от положения дел на фронте и от событий, происходивших в правительственных сферах.
Так, 6 октября 1914 года, после первых успехов на фронте, он оптимистично писал из Москвы в Петроград С.Ф. Платонову: «…Все мы теперь живем напряженно, прикосновенно к действиям на Западном и Восточном фронте… Враг наш нравственно уже разбит и крушение варварского бронированного кулака неизбежно. Мы можем отдохнуть на славных именах наших вождей, уже доказавших свою доблесть и способность. Остается пожелать только исчезновения тех из них, которые не оправдали доверия. Всеобщий подъем духа и твердая надежда на возрождение России дает великое удовлетворение и веру в торжество правого дела». В начале 1915 года настроение его было подавленным, он писал о предыдущем годе «недоброй памяти»: «…Готов и я пожелать себе дожить до конца этой великой войны и до истинного возрождения Отечества… Под всеми этими впечатлениями у меня развилось желание как можно меньше встречаться с людьми и сидеть дома, но это не вполне удается». 31 мая 1916 года в письме к Платонову из Михайловского он с гордостью писал о Брусиловском прорыве, о ста шести тысячах пленных, но в этом же письме есть и такие строки: «…но боюсь еще быть оптимистом. Общее дело и современные приемы не носят характера Мининского». Однако граф Сергей Дмитриевич допускал возможность взятие немцами Петербурга, поскольку еще в конце 1915 года вывез из Фонтанного дома в Михайловское некоторые особенно ценные родовые реликвии и часть архива.
В письмах к Платонову затрагивались и другие темы. Так, он писал о своем разочаровании деятельностью Императорского Русского исторического общества, очень ему дорогого, поскольку основателем РИО был князь Петр Андреевич Вяземский. В письме от 24 марта 1915 года он назвал РИО «нашим департаментом исторических дел», где мало жизни.
В его письмах ноября и декабря 1916 года звучит отчаяние по поводу «министерской чехарды» и разгула « распутинщины». Он, как и многие другие люди из высшего света, резко отрицательно относился к Распутину. 22 ноября 1916 года, на следующий день после своей знаменитой антираспутинской речи с трибуны Государственной думы, В.М. Пуришкевич записал в своем дневнике: «…Телефон трещал с утра до вечера… Бесконечное число лиц заносило мне сегодня визитные карточки в знак сочувствия. Среди них была масса от членов Государственного совета, и что мне особенно дорого, от старика графа С.Д. Шереметева, которого я привык любить и уважать наравне с покойным близким мне А.А. Нарышкиным, ибо оба они рыцари без страха и упрека».
Свое отношение к событиям 1916 – 1917 годов граф Сергей Дмитриевич предельно откровенно выражал и в письмах к младшей дочери, графине Марии Сергеевне Гудович. Она находилась в это время в Кутаиси, где служил ее муж. Эти уникальные документальные свидетельства времени находятся ныне в отделе рукописей Российской государственной библиотеки.
В письмах к дочери граф Сергей Дмитриевич не скрывал своей радости, когда пришло известие об убийстве Распутина. В письме от 20 октября 1916 года он писал об этом открыто и высказывал свою неприязнь к императрице, которую считал едва ли не главной виновницей того «нестроения», которое переживала страна: «…Скрыть нельзя общей радости, что нет более в живых этого рокового человека. Вчера вернулся Государь из Ставки вместе с Дмитрием… несчастная больная только что вернулась из Новгорода, где искала кликушу, …которая уже много лет не моется. Теперь она слегла и подает явные признаки ненормальности». «Несчастная больная» – это императрица Александра Федоровна.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу