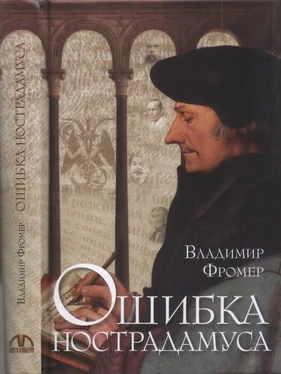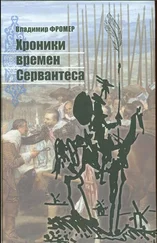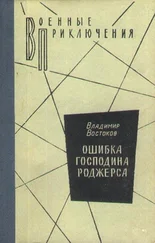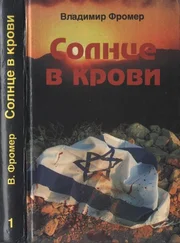Солженицын с фанатичным упорством стремился представить всю историю советского периода как «черную дыру». Его неистовый фанатизм способствовал уничтожению тех «духовных скрепов», которые могли направить общество на гораздо менее разрушительный путь. Его успех на Западе основан именно на этом.
Солженицын великий стратег и тактик.
Шаламов — великий писатель, Пимен того страшного мира, в котором он волею судьбы оказался.
Существует еще один немаловажный аспект, определивший их отношения. Шаламов считал, что после Колымы толстовские морализаторские тенденции в литературе должны исчезнуть. Толстого он винил в том, что тот заставил русскую литературу свернуть с пути Пушкина и Гоголя и двигаться в губительном для нее направлении. В своих письмах Шаламов писал: «Искусство лишено права на проповедь». «Несчастье русской литературы в том, что она лезет не в свои дела, ломает чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает».
И о Солженицыне: «Он (Солженицын) весь в литературных мотивах классики второй половины XIX века. Все, кто следует толстовским заветам, — обманщики». Шаламов полагал, что «возвратиться может любой ад, увы!», потому что российское общество не сделало выводов из кровавой истории страны в XX веке, не поняло преподанный ему «урок обнажения звериного начала при самых гуманистических концепциях».
Разрыву отношений между двумя писателями предшествовал отказ Шаламова стать соавтором «Архипелага». Он хотел сказать свое слово в русской прозе, а не выступать в тени человека, которого с течением времени стал считать дельцом, графоманом и расчетливым политиканом.
Таланта Солженицына никто не отрицает. Ну и что? Умница Раневская говорила, что «талант, как прыщ, может вскочить на любой заднице».
Шаламов писал правду, какой ее видел и чувствовал.
Солженицын, следуя своей политической стратегии, часто довольствовался полуправдой, ловко акцентируя одни факты и замалчивая другие.
Его ГУЛАГ — это общая часть советской системы.
ГУЛАГ Шаламова — подземный ад. Некрополь. Жизнь после жизни.
Конечно, Шаламов не знал тогда, что Солженицын в лагере не бедствовал. Чтобы избежать отправки на Колыму, он стал стукачом по кличке Ветров. Каким-то чудом сохранилось его донесение «куму» о готовящемся побеге заключенных. Сколько таких доносов было — мы не знаем. Оберегающая его рука их уничтожила. На случай если органы пойдут на разглашение его подлости, Солженицын сам написал об этом во втором томе «Архипелага».
Но это еще не все. После своего ареста Солженицын без всяких пыток, после того как следователь постучал кулаком по столу, дал обширные показания против своих самых близких друзей Кирилла Симоняна и Николая Виткевича. Выйдя на волю, он написал Кириллу: «Утопая, я обрызгал тебя, стоящего на берегу». Этой красивой фразой он как бы оправдывал свое предательство.
В 1952 году Симоняна вызвал следователь и дал прочитать толстую тетрадь — целых 52 страницы, — исписанные мелким, хорошо знакомым Кириллу почерком его лучшего друга Сани Солженицына.
«Силы небесные, — воскликнул Симонян, — на каждой странице описывается, как я настроен против советской власти и как его самого склонял к этому».
Николай Виткевич тоже читал солженицынские показания против себя и был потрясен до глубины души. «Я не верил своим глазам», — говорил он впоследствии.
И вот такой человек считался почти пророком и эталоном нравственности и благородства. Ну, можно ли представить Варлама Шаламова в роли лагерного стукача, предавшего своих друзей? Да ни за что на свете.
Я одного не понимаю: почему КГБ, разыгрывая свою партию с Солженицыным, не использовал такую козырную карту, как обнародование информации о том, что «великий борец с тоталитарным режимом» и «образец гражданского мужества» был обыкновенным стукачом. Это сразу уничтожило бы его репутацию и в России и на Западе. Страшно подумать, но возникает вопрос: не был ли этот человек частью какого-то сверхсекретного проекта КГБ? Тайна сия великая есть. Кто знает, может, когда-нибудь она и раскроется, а пока приходится в бессилии отступить.
* * *
Платонов, Шаламов и Домбровский принадлежат к числу самых крупных писателей XX века. И Платонов, и Шаламов описывают мир, в котором чрезвычайный накал жесткости выглядит будничным, обыкновенным. Однако по всем другим параметрам эти два великих мастера не совпадают. Платонов раскрывает быт и душу своих героев во всей глубине, а Шаламов изображает своих персонажей отстранение, с позиции летописца. Платонов заставляет читателя отождествлять себя даже с убийцами, а Шаламов обнажает запредельную метафизическую сущность зла, от которого лучше держаться подальше.
Читать дальше