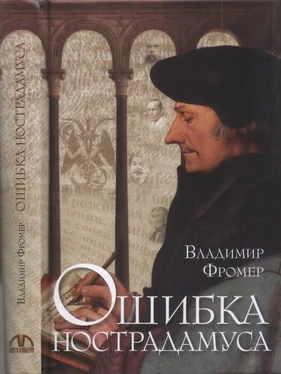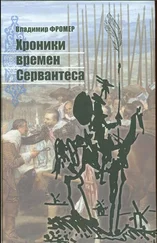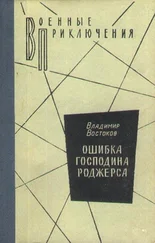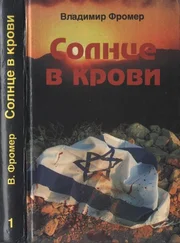В 1976 году от него ушла Ирина Сиротинская, — его муза, его Беатриче, его преданный друг. Десять лет она находилась рядом с ним, и это были самые счастливые годы в его жизни. При ней создавался колымский эпос. Она сопровождала его в странствиях по кругам колымского ада, когда он писал свои рассказы. Но у нее был любящий муж, четверо обожаемых детей, и она устала метаться между двумя полюсами. А здоровье Шаламова слабело, ему нужна была женщина, которая целиком посвятила бы ему свою жизнь. Ирина полагала, что с ее уходом такая женщина появится. Увы, этого не произошло. Он остался совсем один. Здоровье ухудшалось, жить и работать становилось все труднее. Долгое заключение на Колыме, холод и побои привели к тому, что он заболел болезнью Меньера — так называется необратимое расстройство вестибулярного аппарата. Постепенно усиливались симптомы этой страшной болезни — головокружение, утрата равновесия, потеря слуха и зрения, постоянный шум в ушах.
Все это не могло не сказаться на его характере, который и раньше-то не был легким. Пелена одиночества все сильнее окутывала его. Он все глубже уходил в себя. Разучился улыбаться. Почти перестал общаться с людьми. Старался как можно реже покидать дом. В 70-е годы его еще встречали на Тверской, куда он выходил за продуктами из своей каморки. Выглядел он ужасно, с трудом волочил ноги по холодному асфальту. Они подгибались под ним так, точно их кости были из ваты. Земля то и дело уходила из-под них, его шатало, как пьяного, он часто падал. Его и принимали за пьяного, хотя Шаламов спиртного в рот не брал. Поэтому он стал носить с собой справку о своей болезни. (Сегодня эта справка находится в музее Шаламова в Вологде.)
В 1979 году Шаламов, собираясь в свой последний приют, позвонил Ирине и попросил взять к себе его архив, который, пользуясь его беспомощным состоянием, потихоньку начали разворовывать. Она взяла и после его смерти посвятила всю свою дальнейшую жизнь увековечению его памяти.
* * *
В феврале 1972 года «Литературная газета» опубликовала открытое письмо Шаламова, в котором он протестовал против публикаций колымских рассказов в эмигрантской прессе и попыток навесить на него ярлык «антисоветского подпольного автора». Главным же для Шаламова было то, что его рассказы вырывали из контекста и печатали гомеопатическими дозами, искажая внутреннюю композицию книги и замысел автора. Да, Шаламов написал в своем письме, что проблематика «Колымских рассказов» снята жизнью, но это был акт отчаяния. К такому шагу его вынудили тяжелые житейские обстоятельства. В издательстве лежал уже набранный тоненький сборник его стихов, и не напиши Шаламов этого письма, он так бы и не вышел в свет. Для Шаламова речь шла не о славе, а о выживании, — ничтожной пенсии явно не хватало на жизнь.
Впрочем, Шаламов не считал свое письмо в «Литературку» слабостью или ошибкой. Вот что он сам написал об этом: «Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом… Мне надоело причисление меня к „человечеству“, беспрерывная спекуляция моим именем: меня останавливают на улице, жмут руки и так далее…»
Фрондирующая московская либеральная публика хотела видеть его, тяжелобольного человека, героическим борцом против режима. Эту публику Шаламов глубоко презирал. Она, неспособная на какой-либо мужественный поступок, осудила его за якобы недостаточное мужество. Он записал в дневнике: «Они затолкают меня в яму, а сами будут писать петиции в ООН».
К осуждающему Шаламова хору присоединился и Солженицын, который дал по нему залп в своей книге «Бодался теленок с дубом». «Варлам Шаламов умер», припечатал он, хотя Шаламов был еще жив и ходил по московским улицам.
Вот как откликнулся сам Шаламов на попытку Солженицына преждевременно его похоронить: «Г-н Солженицын, я охотно принимаю Вашу похоронную шутку насчет моей смерти. С важным чувством и с гордостью считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки… Я знаю точно, что Пастернак был жертвой холодной войны. Вы ее орудием».
Впрочем, это письмо Шаламов так и не отправил, решив, по-видимому, что слишком много чести. Суть проблемы взаимоотношений двух писателей-лагерников заключается в том, что Шаламов и Солженицын не совместимы ни по каким параметрам. У них разный жизненный и лагерный опыт и разное представление о художественности в литературе и искусстве. Принадлежат они к разным поколениям.
Родившийся в 1918 году Солженицын о революции знал только из книг. У Шаламова революция и Гражданская война совпали с детством и отрочеством. Он их порами впитал. В отличие от Солженицына, Шаламов считал себя только художником и не терпел политики. Его даже нельзя назвать антисоветчиком. Он полагал, что советская система может эволюционировать наподобие китайской, и предупреждал, что ее бездумное разрушение приведет к трагическим последствиям. Как мы теперь знаем, именно это и произошло.
Читать дальше