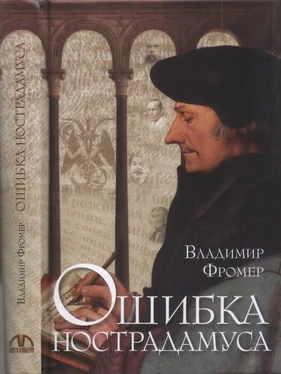Впрочем, все это было в далеком прошлом, в той жизни, о которой Борис Абрамович хотел бы забыть. Он давно уже стал мизантропом и считал, что дерьмо, в котором мы все живем, является следствием многочисленных попыток сделать мир лучше.
Давно умерший отец — единственный человек, которого он любил в жизни, — часто рассказывал маленькому сыну мудрые притчи.
«В каждом человеке, — рассказал он однажды, — борются два волка. Один волк представляет зло, зависть, жадность, скупость, трусость, ненависть и эгоизм. Второй воплощает любовь, дружбу, доброту, верность, щедрость.
— Ну и какой же волк побеждает? — спросил сын.
— Тот, которого ты чаще кормишь».
Теперь, по истечении стольких лет, Борис Абрамович понимал, что он всю жизнь кормил обоих волков и что ни один из них не стал победителем.
Был поздний вечер. Шел осенний холодный дождь и в свете фонаря в саду были хорошо видны косо падавшие частые капли. Борис Абрамович сидел в уютном кресле, глубоко задумавшись. Он размышлял над тем, что произошло сегодня утром в его офисе.
К нему пришел маленький тщедушный человек с назойливыми глазами. Звали его Ефим Шварцман. У него были тощая сварливая жена и маленькая дочка, в которой он души не чаял. Всегда готовый услужить, он выполнял в офисе всякие мелкие поручения. Борис Абрамович испытывал к этому человеку смешанное чувство брезгливости и жалости.
Ефим выглядел ужасно. Под глазом красовался огромный синяк. Давно поредевшие волосы стояли дыбом. Всхлипывая и взмахивая длинными руками, он рассказал о том, что с ним произошло.
Вчера, когда он шел по улице, рядом с ним, скрипнув тормозами, остановилась милицейская машина. Из нее, как черти из табакерки, выскочили двое ментов и, не говоря ни слова, бросились его избивать. Надели наручники и привезли в отделение.
— За что? По какому праву? — кричал Ефим.
— Щас мы тебе покажем права.
И показали, да так, что он дважды терял сознание. Потом его заперли в камере на целую ночь. В туалет не выводили.
Ни еды, ни воды не давали. Утром привели к тем же ментам.
— Слушай, жидяра, — сказал первый мент. — Мы знаем, что ты наркотой промышляешь.
— Видит Бог, — начал было Ефим, но мент прервал его ударом кулака в лицо. Ефим упал. Второй мент поднял его и усадил на стул. — Боже мой, — прошептал Ефим разбитыми губами.
— Так вот, слушай внимательно, — сказал первый мент, — мы можем надолго тебя посадить. Очень надолго. Мы у тебя в пиджаке наркоту нашли — вон она на столе лежит. Но мы тебя отпускаем с тем, чтобы ты завтра же в клювике приволок сюда тысячу баксов. Не правда ли, мы покладистые малые? Не принесешь — пеняй на себя. А если пожалуешься кому… О своей дочурке подумай… А теперь вали отсюдова.
Выслушав эту историю, Борис Абрамович пришел в ярость.
— Мерзавцы, — сказал он с чувством. — Они у меня попляшут. И он потянулся к телефону.
Но тут произошло неожиданное. Ефим, громко рыдая, упал на колени.
— Борис Абрамыч, — молил он, — не надо никому звонить. Они ведь доченьку мою убьют. Одолжите мне, бога ради, эту тысячу баксов. Клянусь, что верну… Отработаю… Вечно буду за вас Бога молить.
Схватив жилистую ладонь Бориса Абрамовича, он прижался к ней губами.
«И я дал ему деньги», — думал Борис Абрамович, прислушиваясь к шуму дождя за окном. «Это плохо. Это очень плохо. Бизнес и сентиментальные эмоции — вещи несовместимые. Вторжение в коммерцию человеческих чувств приводит к плачевным результатам. Видимо, я начинаю сдавать…»
* * *
Мои петербургские приятели Миша Богин и Марк Мазья жили рядом, в центре города, в больших светлых квартирах, которые раньше были коммуналками. Я так и не узнал, каким образом им, не имевшим ни средств, ни связей, удалось их приватизировать. Впрочем, в гайдаро-чубайсовские времена происходили еще и не такие чудеса.
Миша был режиссером, снимал документальные ролики для «Ленфильма» и для «Джойнта», мечтал делать настоящее кино, и я не сомневался, что так оно и будет. Он любил свою работу до самозабвения, но был лишен честолюбия. Чужому успеху радовался, как своему, не протискивался вперед, расталкивая других локтями, не искал покровителей. Миша мог одолжить себя в любое время, но отдать себя — никогда. Он хотел быть абсолютно свободным, а это самое трудное.
Он мечтал, что когда-нибудь экранизирует великий роман Сервантеса. «Разве не удивительно, — говорил он, — что совершенство души в сочетании с ущербным мозгом создает идеальную личность: Дон Кихот, Мышкин. Интересно почему. Уж не тормозит ли ум нравственное развитие души?»
Читать дальше