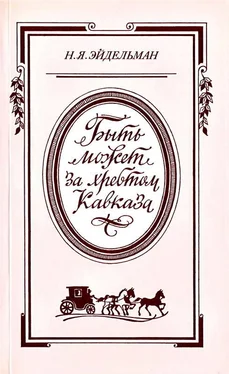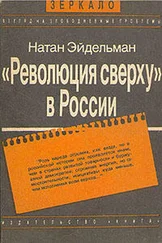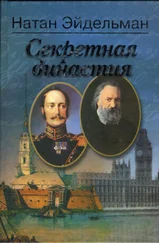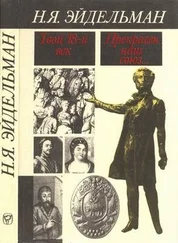С этой минуты мы стали близко друг к другу. Он — как учитель, я — как ученик. Между нами было с лишком десять лет разницы; моя мысль была еще не устоявшаяся; он выработал себе целость убеждений, с которыми я могу теперь быть не согласен, но в которых все было искренно и величаво» [там же, с. 348–350].
Как не похожа огаревская исповедь на лермонтовскую.
И как, в сущности, похоже!
Лермонтов по соседству , едва ли не присутствует: в 1838-м на Кавказе его, правда, не было — первая ссылка (странствия с Одоевским) позади, новая ссылка впереди. Но Огарев и не скрывает, что, вспоминая почти через четверть века, не может, да и не желает избавиться от влияния «Героя нашего времени», от стихов к А. И. О. (в 1838-м еще не написанных!).
Сходства много — различия интересны.
Дело в том, что тогдашний, молодой, восторженный Огарев — человек не «лермонтовского склада», он не был старше Одоевского!
Московские мальчики Герцен и Огарев, университет, потом ссылка — все, как у Лермонтова; и гений своего ровесника они чувствуют, уважают.
Но Герцен вспомнит позже:
«Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаянием и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что» [Герцен, т. VII, с. 224].
Не станем сейчас разбирать, критиковать герценовское сравнение: он так думал (через несколько лет после гибели Лермонтова) — его оценка имеет значение мемуаров, она совпадает с впечатлениями примечательной группы ровесников Лермонтова.
Пушкину порою крепко доставалось от «московских юнцов» из компании Герцена, Огарева — за «одобрение» Николая I, за камер-юнкерство; он вроде бы далекий, много старший, великий, но — не свой . С Лермонтовым юные москвичи как бы на ты , с Пушкиным — на неизмеримой дистанции.
Но Лермонтов, по их понятиям, отрицатель всего — и борьбы и соглашения. Он знает, что плохо; но что же хорошо? (Еще раз не станем обсуждать, насколько они правы, — им так казалось, такая у Лермонтова репутация!)
«Любовь, — позже запишет Герцен, — много догадливее, чем ненависть», и Пушкин «юной Москве» все-таки тем важнее, интереснее, что постоянно ищет выход (хотя, по их твердому убеждению, не всегда ищет там, где надо).
Огарев же, восхищаясь стихами Лермонтова («И скучно, и грустно»), все же замечает: «Впрочем, это не совсем мой взгляд на жизнь. Мой взгляд глубоко грустен, но не так отчаянно сух».
«Сух» — т. е. безнадежен, бесплоден…
Сам Огарев не успел познакомиться с Лермонтовым. Зато друг-единомышленник Сатин в юности с Лермонтовым учился, в 1837-м успел повстречаться с великим поэтом на Кавказе и сохранил впечатления, очень похожие на те не слишком лестные характеристики, что оставили декабристы Лорер, Назимов…
Когда Белинский (в 1837-м тоже побывавший на Кавказе) положительно говорил о Вольтере в присутствии Лермонтова и Сатина, естественно надеясь на сочувствие двух сосланных молодых людей, то в ответ услышал от Лермонтова: «Да я вот что скажу вам о вашем Вольтере: если бы он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры».
Сатин рассказывает, что Белинский, «едва кивнув головой, вышел из комнаты» и после просил Сатина не приглашать к себе «таких пошляков»; Лермонтов же хохотал и называл Белинского «недоучившимся фанфароном».
Только три года спустя, во время встречи на гауптвахте, Лермонтов и Белинский, как уже говорилось, нашли общий язык, но разница психологии, характеров преодолевалась с огромным трудом. Сатин неодобрительно замечал, что Лермонтов вместо серьезных разговоров «сыпал разными шутками» (в рукописи было: «сыпал своими глупыми шутками», ср. [Сатин, с. 240] и [ЛБ, ф. 69. XI. 27].
Итак, Лермонтов для круга Огарева, Сатина, Белинского — характер как будто достаточно возвышенный, восторженный; не ищет выхода.
Выход же должен быть!
Разумеется, Лермонтов эту мысль, столь же важную, сколь простую, знал, отлично чувствовал — иначе не умилился бы душою о Саше Одоевском.
Читать дальше