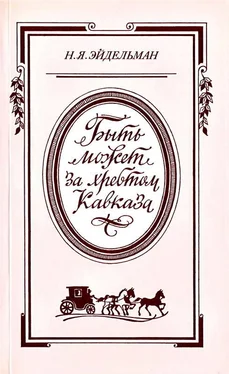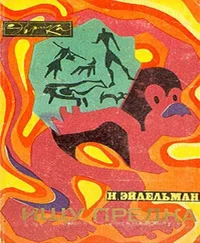Начавшему читать может показаться, что это какой-то особый вариант «Героя нашего времени»: конец 1830-х годов (точнее — 1838 г.), Кавказские Минеральные воды, опальные офицеры, доктор Мейер (Мейер — лермонтовский Вернер).
То, что в огаревских письмах и стихах 1838–1839 гг. мелькнуло безымянным намеком — «и ты поэт с прекрасною душою», — здесь высказано свободно, откровенно:
«В ясное утро был виден и двуглавый Эльбрус, с далекой цепью гор, подобных белым облакам, а к полдню белыя облака толпились вдали точно снеговые горы. Вот уже я еду нагорным берегом Подкумка, серебрящегося и шумящего глубоко, там — внизу, а за ним опять степь зеленая. Вот на повороте у подошвы Машука забелелись домики Пятигорска. […]
Мы наняли квартиру на бульваре. Н. привел нам доктора. Мейер был медиком, помнится, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе. […] Он и Одоевский бывали у нас почти ежедневно. Они были глубоко привязаны друг к другу. Их все соединяло — от живой шутки до глубокого религиозного убеждения или лучше религиозного раздумья. […]
Это был тот самый князь Александр Иванович Одоевский, корнет конногвардейского полка, которому было 19 лет, когда он пошел на площадь 14 декабря, и которого Блудов в донесении Следственной комиссии попытался осмеять так же удачно, как Воронцов излагал свое мнение о Пушкине. Блудов не догадался, что Одоевский мог говорить: „Мы умрем! Ах, как мы славно умрем!“ (если это только было так говорено), потому что, несмотря на ранний возраст, он принадлежал к числу тех из членов общества, которые шли на гибель сознательно, видя в этом первый вслух заявленный протест России против чуждого ей правительства и управительства, первое вслух сказанное сознание, первое слово гражданской свободы; они шли на гибель, зная, что это слово именно потому и не умрет, что они вслух погибнут» [ПЗ, VI, с. 344–348].
Далее следует едва ли не стихотворение в прозе — мемуарный портрет декабриста, того Одоевского, каким он был через год после прибытия на Кавказ и ровно за год до гибели:
«Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов списал его с натуры. Да! этот
„блеск лазурных глаз,
И детский звонкий смех и речь живую“
не забудет никто из знавших его. В этих глазах выражалось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека, в них выражалось милосердие. Может быть, эта сторона, самая поэтическая сторона христианства, всего более увлекла Одоевского. Он весь принадлежал к числу личностей христоподобных. Он носил свою солдатскую шинель с тем же спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, с той же любовью к товарищам, с той же преданностью своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил свое страдание; это совершенно в христианском духе… да не только в христианском духе, это в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия. Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. […]
У меня в памяти осталась музыка его голоса — и только. Мне кажется, я сделал преступление, ничего не записывая, хотя бы тайком. В недогадливой беспечности, я даже не записал ни его, ни других рассказов про Сибирь. И еще я сделал преступление; в моих беспутных странствиях я где-то оставил его портрет, сделанный карандашом еще в Сибири и литографированный. […]
Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь… это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию, наверно, были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я послал Одоевскому, после долгих колебаний истинного чувства любви к ним и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез; в самом деле это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу.
Читать дальше