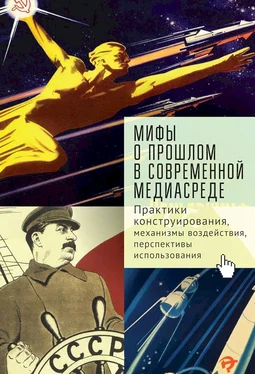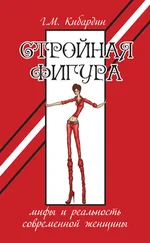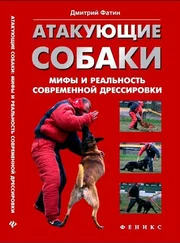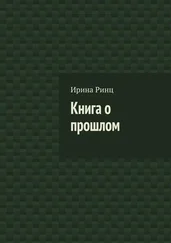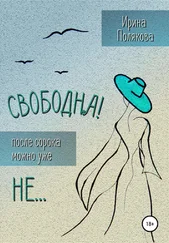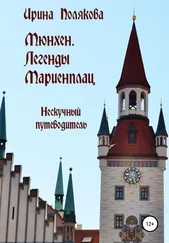В таких условиях, когда огромный массив циркулирующей информации грозит обывателю размытой картиной мира, последнему приходится, возможно неосознанно, прибегать к уловкам в виде стереотипов, клише и прочих атрибутов того, что мы относим к «инструментальному» уровню социального мифа. «Современная эпоха обрушивает на воспринимающего субъекта такой гигантский образно — информационный поток, что законы воздействия и восприятия трансформируются. Особую власть над аудиторией обретают клише, поскольку именно они быстрее усваиваются, апеллируя к уже устоявшимся, многократно варьируемым знаниям и представлениям. Художественные клише помогают человеку ориентироваться в плотном медийном пространстве, несут в себе „ссылки“ на аналогичные художественные образы и сюжетные звенья, на целые ряды мотивов и ассоциаций. И в то же время в симбиозе со знакомыми клише в сознание проще входят новые концептуальные повороты, новые образы и мотивы, транслирующие непривычное содержание» [363] Сальникова Е. В. Визуальная культура в медиасреде. Современные тенденции и исторические экскурсы. — М.: Прогресс — Традиция, 2017. С. 20.
.
Здесь вновь нам приходится обращать особое внимание на феномен постмодернизма, в данном случае как новый этап художественно — эстетической культуры [364] См.: Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. — М.; СПб.: Изд-во «Центр гуманитарных инициатив. Университетская книга», 2009. 495 с.; Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — СПб.: Алетейя, 2000. 347 с.
. Безусловно, игровые формы взаимодействия с миром, дистанцированность от жестких бинарных оппозиций (реальное — воображаемое, естественное — искусственное и т. п.), ироничное отношение к реальности позволяют увидеть эстетические проявления в культуре в совершенно новом ракурсе. Интересно, что постмодерн часто связывают с реабилитацией мифа, вытесненного из сознания человека модерна [365] См.: Миф и художественное сознание XX века / отв. ред. Н. А. Хренов. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. 687 с.
. Так, если считать, что уже упомянутый лабиринт выступает в качестве одной из мифологем, относящихся к «архаическому» уровню социального мифа (преодоление своеобразных лабиринтов выступает как один из главных этапов путешествия героя), то можно предположить следующее: эстетика постмодернизма оказывается полем, откуда запускаются в современное массовое сознание разного рода социальные мифы и мифологемы. Однако, существует опасность, что такие мифы и мифологемы будут деструктивными и станут оказывать разрушительное воздействие на общество, что, в свою очередь, лишь усилит тотальную эстетизацию и приведет к утрате традиционных социальных ценностей.
Обобщенно сегодняшнюю функцию социального мифа мы можем назвать суггестивной, имея в виду, прежде всего, способность мифа в концентрированном виде содержать в себе все многообразие современных общественных проявлений. Сегодня в информационном обществе, характеризующимся сложным переплетением самых разнообразных явлений и процессов, исследовательское поле социальной мифологии расширяется. Такое общество открывает новые возможности для метаморфоз «инструментального» уровня социального мифа, способного «подыграть» постмодернистским уловкам и коммуникационным революциям суггестивного мира.
Таким образом, проектный потенциал социальной мифологии был рассмотрен нами с двух сторон: через понимание мифологии как судьбы народа и общества и через политическую мифологию, отчетливо демонстрирующую конструктивно — деструктивную роль современной мифологии. Проектная функция социальной мифологии осмыслялась через сравнение мифологии с утопией и идеологией. Было отмечено, что как текущие политические мифы впитывают в себя все существующие к настоящему времени утопии, так и в утопиях отражаются значимые мифы соответствующей эпохи. Сегодняшнюю функцию социальной мифологии можно назвать суггестивной, имея в виду, прежде всего, способность мифа в концентрированном виде содержать в себе все многообразие современных общественных проявлений. В современном информационном обществе, область распространения мифов только расширяется.
5.2. Цифровое утопическое мышление
Важным сегментом медиасреды является game — пространство, аккумулирующее социокультурные практики компьютерных игр. Мифология компьютерных игр, включая историческую, является огромным пластом массовой культуры и требует самостоятельного изучения. В своем анализе мы ограничимся единичной мифологемой идеального города, чтобы выявить типовые практики game — мифотворчества. Компьютерные игры сегодня являются важным агентом социализации, аккумулирующим особое социальное пространство со своей субкультурой и коммуникативными практиками. Когнитивное значение компьютерных игр, их способность реалистично воспроизводить ландшафт, климат, этнические и социальные реалии ушедшего и воображаемого времени, а также эффективно транслировать искажения исторической правды, неоднократно фиксировалась исследователями [366] См.: Карякин П. П. Историческая память в компьютерных играх // Осенняя школа по гуманитарной информатике: сборник тезисов докладов. — Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2017. С. 24–27.
. Игровой мир компьютерной игры, представляющий собой сконструированный смысловой и событийный контекст, выступает для игра в определенном смысле альтернативной реальности, погружение в которую через принятие ее правил и обстоятельств и является основой игрового опыта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу