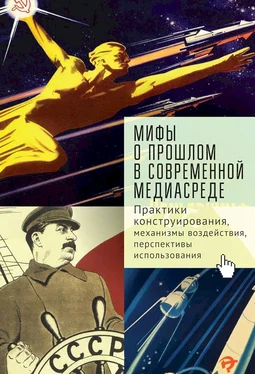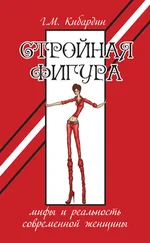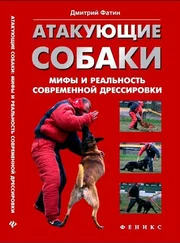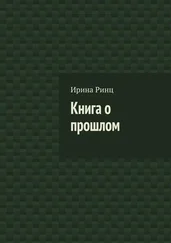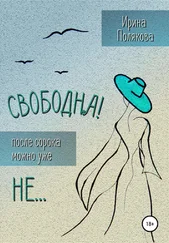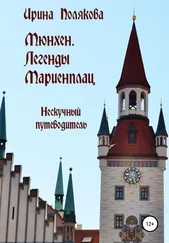С эпистемологической точки зрения принципиальным свойством Интернета является синкретизм производства и распространения знания: создавая сообщение, пользователь приобретает новые знания, которые транслируются созданным текстом/ видео — контентом. Такое знание — сообщение соответствует критериям «открытой коммуникации» (И. Т. Касавин), «отвечающей за навыки саморазвития и формирование интеллектуального капитала» [175] Касавин И. Т. Источники знания: проблема «testimonial knowledge» // Эпистемология и философия науки. 2013. № 1 (35). С. 15.
. Связь информации и знания весьма наглядно была охарактеризована М. Алави и Д. Лейднер: «информация в знание превращается только тогда, когда она перерабатывается субъектом, а знание становится информацией только тогда, когда оно артикулируется» [176] Alavi M., Leidner D. E. Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues // MIS Quarterly. Vol. 25. No. 1. 2001. Pp. 107–136.
. В процессе коммуникации информация непрерывно субъективируется, становясь знанием, а знание объективируется (артикулируется), становясь информацией, эта непрерывная конвертация и составляет эпистемологическую суть коммуникации. Циклы этой конвертации многократно ускоряются в условиях Интернета, а коммуникативный характер знания становится еще более очевидным.
Жанровая специфика Интернет коммуникации диктует свои требования к сообщениям, подчиняя их стратегиям сотрудничества, экономии языка, ясности и выразительности текста. Данные стратегии формируют специфическую рефлексивность коммуникативной деятельности, оперативную и экстенсивную, поверхностную, предполагающую быстрое неглубокое скольжение по ризоматичным смыслам гипертекста. Продуцируя неформальное знание, эта деятельность одновременно реализует практически все функции языка, подчиняясь сиюминутным интересам и потребностям пользователя. Быстрыми темпами складываются дискурсивные правила производства сетевого неформального знания, обеспечивающие востребованность конкретного сообщения.
Каноны научной коммуникации нечувствительны к этим новым правилам. Для науки естественной является ориентация на стандарты интеллектуальной оценки и верификации доказательств, принятые в научном сообществе, как на универсальные, поскольку они проистекают из человеческого разума. Однако неформальное знание в социальных сетях оперирует другими системами аргументации и верификации, основанными на здравом смысле и демократическом коммуникативном опыте. Последний исходит из равноправия точек зрения в условиях декларации свободы мнений и настаивает на формальном равенстве оппонентов независимо от уровня их компетентности. В этих системах искомое качество информации — достоверность — определяется не методологическими когнитивными процедурами, а характером отношений между контрагентами — независимый эксперт, незаинтересованный в прямой выгоде, имеет большую квоту доверия, чем представитель утверждающей корпорации.
Конкурируя с наукой в борьбе за умы, лженаука активно использует приемы и инструменты мифологизации в продвижении своих учений. Важнейшим среди них является концепт правды, которым подменяется методологическое понятие истины в науке. Правда, как известно, этическая категория, интегрирующая истину и справедливость. Коннотативный строй правды — высшее благо, победа над неверными, восстановление порядка — детерминирует лексическую сочетаемость в мифологическом дискурсе лженауки. «Правда» всегда настоящая и подлинная, сокровенная и скрываемая. Таким образом, дискурс лженауки имплицитно конструирует мифологему, подкрепляющую понятие, в соответствии с которой «Правда» является сущностью высшего порядка, у нее есть враги и гонители, этически негативные и воплощающие Зло; сторонники правды обладают этическим же превосходством над ее противниками. Эта дискурсивная практика особенно наглядна в условиях социальных сетей, максимально приблизивших письменную коммуникацию к неформальной устной речи. Апологеты лженаучных концепций позиционируют свою точку зрения как гонимую, скрываемую «официальной» наукой правду, развивая самую распространенную коммуникативную стратегию мифоприменения концепта «Правды». Правда (знание о вреде ГМО — продуктов, внеземном происхождении человечества или строительстве египетских пирамид…) существует. Содержательно она сводится к тому, что научно — обоснованные технологии способны сделать людей мутантами, уничтожить их фертильность или искалечить иным чудовищным образом. Эксперты от науки знают правду, но скрывают ее, злонамеренно или по недалекости. Этих нерадивых агентов правды можно привлекать к легитимации Правды косвенно, через одобрение ими менее значимых истин, если взывать к их совести и задабривать их самолюбие. Эта стратегия вынужденной умеренной кооперации во имя высших/ общих целей сменяется агрессивной обороной в стане врага.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу