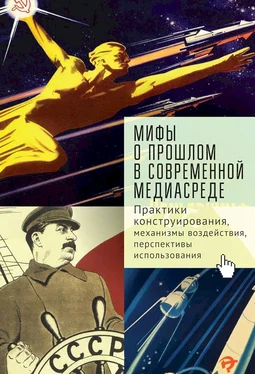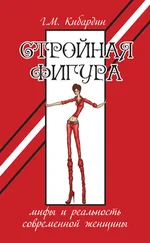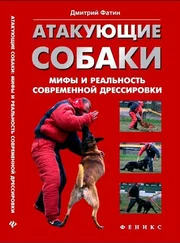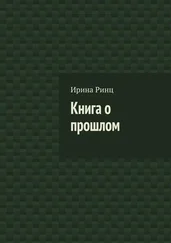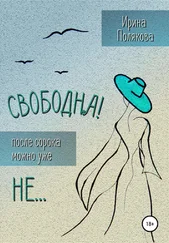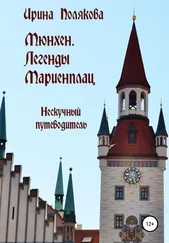Первый вариант является внешней по отношению к науке «узурпацией». Второй имеет внутринаучный характер. Если содержательно лженаука всегда предполагает отвергнутые в качестве ошибочных научным сообществом идеи, то ее формальное развитие зависит от социальной среды и ее связи с социальным институтом науки. Социальные эффекты лженауки зависят от того, кто и кому транслирует лженаучные взгляды. Именно институциональный критерий был использован В. А. Леглером для демаркации категорий лженауки и квазинауки. Квазинаука — «отрицание мировой науки» национальным научным сообществом, организованным в иерархическую структуру. Лженаука — это ошибка отдельного индивида, вызванная низким уровнем его образования, интеллекта или психической болезнью [162] Леглер В. А. Наука, квазинаука, лженаука // Вопросы философии. 1993. № 2. С. 49.
, маргинальная, периферийная по отношению к науке в целом.
Маргинальность лженауки означает, что выдвигать ее может профессиональный ученый, но его идеи не найдут поддержки среди коллег. Критичность и скептицизм представителей научного сообщества приведут к своевременной идентификации лженауки. Поэтому для существования науки сама по себе лженаука особой угрозы не представляет.
Ситуация меняется, когда распределение статусных позиций внутри института определяется внешними для института силами. Тогда лженаука может находить подкрепление со стороны ненаучных форм мировоззрения, доминирующих в конкретном обществе, например, религиозной или политической идеологии.
Так, выдвинутое В. А. Леглером определение квазинауки относится к конкретно — историческому явлению — советской науке, существовавшей в известной идеологической ситуации. В тех условиях лженаучная идея или концепция, противопоставленная западной «буржуазной» науке, могла служить культурным капиталом для продвижения в научной иерархии при поддержке государства. В основании квазинауки лежала лженаука, тиражирование которой осуществлялось в результате подчинения научного сообщества государству и устанавливаемой им государственной идеологией.
В современных условиях в рамках науки квазинауку сменила псевдонаука, заключающаяся в фальсификации научных исследований, плагиате и прочих формах научной недобросовестности. Как и у квазинауки, у псевдонауки есть естественные пределы роста: квазинаучное и псевдонаучное знание не решает новых практических задач, соответственно, рано или поздно научное сообщество от него откажется.
Однако в развитии псевдонауки роль лженауки минимальна. В современном обществе трансформируется сама институциональная структура, и, соответственно, смещается источник лженауки. Сегодняшний тип общества обозначают как информационное общество или общество знания. Эти термины фиксируют как возрастание объемов социально значимой информации, так и включения профессиональных научно обоснованных экспертиз в базовые процессы институализации.
В предшествующие эпохи логика последних определялась формированием корпоративных норм. Корпоративные институциональные нормы регулировали процедуры получения профессионального знания, его трансляции и применения, превращая профессию в маленький социальный мир. Не исключением является и институт науки, формирование которого пришлось на XVII в. А. Строев отмечает, что братства масонов и ученых, характерные для XVIII в., формировались на платформе утопических и мистических идей XVII в., среди которых «Описание христианской республики» И. В. Андреэ, «Новая Атлантида» Ф. Бекона, «Дорога света» Я. А. Каменского [163] Строев А. Ф. «Те, кто поправляет Фортуну». Авантюристы Просвещения. — М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 28.
. Все эти трактаты связывают воедино построение идеального общества и восхождение к высшему знанию. Отдельные их положения были использованы в Англии при создании первых научных обществ, а в целом они стали основой характерного для Просвещения представления о том, что все ученые — граждане единой Республики Словесности, где все равны, все дружат и помогают друг другу, стремясь к одной цели — знанию [164] Там же.
. Этот идеал довольно быстро перешел в имплицитную фазу. Тем не менее, в любой современной работе, посвященной этосу науки, мы найдем ее отголоски. Известно, что Р. Мертон концептуализировал нормы науки, полагаясь на свою интуицию, тестируя свои идеи на высказываниях ученых (начиная с XVII в.) о своей работе и данных об их поведении [165] См.: Демина Н. В. Тестирование мертоновской концепции этоса науки: Случай академика Виталия Гинзбурга // Телескоп: Журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. № 6. С. 30.
. Этос науки он определял как эмоционально насыщенный комплекс ценностей и норм, разделяемый учеными [166] Merton R. K. The Sociology of Science / Ed. by N. W. Storer. — Chicago: University of Chicago Press, 1973. P. 268–267.
. Ядром этоса являются четыре императива (для их обозначения используется аббревиатура CUDOS) — коммунизм (результат научного познания должен быть доступной для всех общественной собственностью), универсализм (внеличностный характер научного знания, его независимость от классовых, национальных, расовых особенностей), бескорыстность (ученый должен действовать так, как если бы познание истины было его единственным интересом) и организованный скептицизм (критичность к любому вкладу в науку, чужому и собственному). Таким образом, наука на уровне идеалов оказывается автономным сообществом равных, занимающихся бескорыстным познанием истины.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу