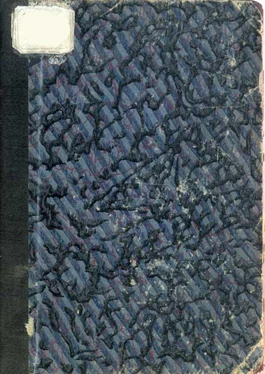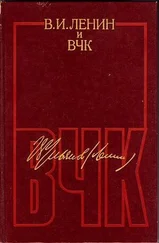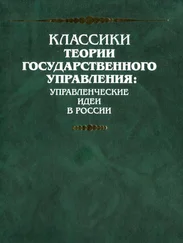Переходим непосредственно к харьковскому кружку Мельникова конца 80-х годов, в котором принимал участие и Владимир Давыдович Перазич. Последний пишет: «Это была пора теоретических исканий в связи с выяснившимся крушением народовольчества, пора первого размежевания в Харькове ощупью, без знакомства с произведениями Плеханова, намечавшегося марксизма и революционного народничества («Еженедельник Правды», № 14, стр. 25), и там же на стр. 26 рассказывается о подобной же попытке в Пензе,
[44]
со слов П. Ф. Теплова [24] Кстати о Пензе. С Пензой у нас была связь, которая, может быть, относится к тому самому времени, о котором говорил Тепдов. В конце 80-х годов в Прилуках, Полтавской губ., оказались связи с Пензенскими семинаристами, откуда нам, гимназистам Прилукской гимназии, доставлен был том капитала Маркса. Гуленко съездил к своим родственникам в Пензу ц привез нам Маркса (а мы,, я и Гуленко, кончили гимназию в 1887 году).
. По поводу харьковского кружка можно вполне согласиться с мнением тов. Невского, когда он делает свое заключение в результате изучения дела Мельникова. Тов. Невский пишет («Прол. Рев.», № 1): «Харьковский кружок был одной из замечательных попыток рабочих, без знакомства с марксистским учением, самостоятельно найти новые пути, не народовольческие» (стр. 115-116 там же), и в другом месте: «Харьковский кружок рабочих конца 80-х годов представлял собою кружок, в котором, несмотря на влияние интеллигентов-народовольцев, рабочие самостоятельно искали новых путей».
А вот что еще пишет о харьковском кружке В. Д. Перазич: «Эта книга («Исторические письма» Лаврова) среди рабочих давала осечку». И необходимо было переходить «на политико-экономические темы и обсуждение текущих дел». Здесь мои слушатели требовали и брали у меня лишь то, что я мог дать из того небольшого марксистского багажа, который был накоплен у меня к тому времени. Таким образом, не я на них, а они на меня оказывали воспитывающее влияние, производя на меня прямо-таки давление в сторону развития начатков марксизма» (стр. 23-34, Перазич, «Красная Летопись», № 4). «Дальнейшее воспитание в этом направлении я получил в тюрьме от Ювеналия» (там же). Еще Вл. Дав. Перазич указывает на «трезвость мысли о роли крестьянства», на неразделение иллюзии автора о «прочности социалистических убеждений учащейся молодежи». «Полагаю, — пишет Перазич, — что Ювеналий попросту тогда, только не знал, что говорит «прозой марксизма» (там же, стр. 23).
И еще из ст. тов. Невского: «если принять во внимание свидетельство о том, что Ювеналий Мельников о социал-демократии впервые услышал от Абрамовича в Крестах (а это мною записано со слов Мельникова, см. «Прол. Револ.», № 1, Б. Э. ), то становится понятно, что харьковский кружок рабочих, совершенно самостоятельно, ничего не зная
[45]
о марксизме, — правда, ощупью, шел по пути, указанному Марксом». (104).
И в этом кружке, харьковском, и в других подобных, сталкиваясь с теми или иными течениями в интеллигенции, рабочие сами выбирают то, что годно для них. Например: «Северно-русский рабочий союз» —свою программу составил с наклоном к соц.-демократизму, вопреки интеллигентским влияниям. А вот что пишет К. М. Норинский, описывая дискуссию: «Из интеллигенции прибыли со стороны народовольцев: Сущинский, Зыков (повидимому), А. А. Федулов, а от социал-демократов Герм. Бор. Красин и В. В. Старков» (сборн. «От Благоева», стр. 17). Сначала выступил народоволец. Говорил часа два. «Развиваемые тезисы были сильны, убедительны не только для нас, но и для людей, более сильных в подобных вопросах. Но мы остались непреклонны. С нашей стороны отповедь получилась в пользу соц.-демократов», хотя ораторы соц.-демократы по словам К. М. Норинского, были слабее (там же, стр. 17).
Подобный же случай выбора своей пролетарской линии против сильной речи Троцкого описан в одесской записке М. Г. Даргольца.
В чем тут сила? Как это объяснить? Дело объясняется просто: говорит классовый инстинкт. Но нет ничего хитрее инстинкта. Железная стружка соответственной величины с непреодолимой силой прокладывает себе путь к магниту. Вот в чем разгадка. Рабочие берут свое, руководствуясь классовым инстинктом. Во всяком случае таких кружков, как харьковский Мельникова-Перазича, уже отмечено несколько, например, в Ростове [25] См. в этом сборнике записки Торсуевой.
), а было их гораздо больше. Тут для истпартов еще много работы. Но особенно отчетливо вырисовывается кружок харьковский и яркий его выразитель Ю. Д. Мельников. Само собою напрашивается параллель между харьковским слесарем и вятским столяром, между выразителем рабочего движения конца 70-х г.г., Халтуриным, и движения конца 80-х годов, Мельниковым.
Читать дальше