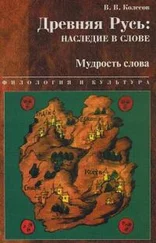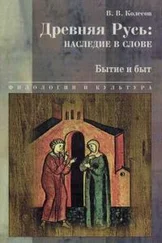Перейдем теперь к вопросу об этническом характере предания о Рогнеде. Обычно исследователи говорят о Рогволоде Полоцком и его дочери как о норманнах. Так, например, сопоставляя летописное предание о Рогнеде с былинами о Хотене Блудовиче и об Иване Годиновиче, О. Ф. Миллер усматривал и в них варяжские черты [519]. В этом, конечно, сказалось то, что летопись в обоих своих вариантах говорит о Рогволоде как о князе, пришедшем из-за моря. Тут же упоминается и оставшийся нам неизвестным Туры, князь такого же происхождения, от которого летописец производит название города Турова, — этимология явно искусственная и натянутая [520]. Но какой-то варяжский вождь или князь по имени Туры, þоrir , мог существовать в действительности. Как уже было сказано выше, таких вождей, а также князей местного происхождения на Руси, несомненно, было известно больше, чем упомянуто в летописи, тенденциозно выдвигающей только тех, которых она ведет от Рюрика. Вполне возможен поэтому и какой-то реальный Рогволод, хотя он как историческое лицо остается довольно неясным и неопределенным. Его имя, прочно вошедшее в традицию в роду полоцких князей, а также имя его дочери правдоподобно объясняются как скандинавские и обладают характерной аллитерацией [521]. Сам Полоцк был знаком скандинавам как один из крупных русских городских центров.
Все это так, но нельзя не принять во внимание того обстоятельства, что некоторые русские историки находят основание сомневаться в варяжском происхождении полоцких князей, потомков Рогволода. П. В. Голубовский считает возможным, что в Полоцке сложилось, по образцу предания о Рюриковичах, династическое сказание о собственном местном княжеском роде варяжского происхождения, равном Рюриковичам по достоинству [522]. Не доверяет этому полоцкому преданию и М. В. Довнар-Запольский, относящий его возникновение в связи с отношениями Полоцка с норманнами [523].
Если предание о Рогволоде как о норманне родом — действительно только династическое, в духе, например, тех уже совершенно фантастических генеалогий, какие известны в русской историографии московского периода, то вопрос о варяжском происхождении летописной легенды о Рогнеде уже в значительной мере теряет под собой почву. Обнаруженный до сих пор в районе Полоцка археологический материал со своей стороны не свидетельствует о сколько-нибудь значительной роли норманского элемента в древнем Полоцком княжестве.
Что же можно сказать в этом отношении о самом содержании легенды и общем характере образа ее героини? Б. М. Соколов совершенно прав, когда отзывается об обеих частях летописного рассказа под 1128 г., как об одном целом и отмечает выдержанность и последовательность вытекающей из этого рассказа характеристики Рогнеды, сохранившейся, по его мнению, даже в позднем повествовании Тверской летописи под 988 г., несмотря на книжное сочинительство в агиографическом духе, которым оно проникнуто [524].
Легенда о Рогнеде, яркая, цельная и выдержанная, перекликается с северными сагами; образ дочери Рогволода, мстительницы за своих кровных родичей, глубоко родствен героиням саг и «Эдды». В скандинавском обществе эпохи викингов еще сохраняли свою силу отношения и понятия, унаследованные от родового строя, и в этом обществе женщина занимала высокое и почетное положение. С идеологией, еще державшейся в скандинавском быту этой эпохи, можно пытаться связывать также и не вполне до сих пор ясную сцену с Изяславом в версии 1128 г., когда маленький Изяслав выступает с мечом в руке против своего отца, Владимира Святославича, защищая Рогнеду. Называю ее не вполне ясной, поскольку для нее, насколько мне известно, до сих пор не найдено никаких аналогий ни в русском фольклоре и русских литературных памятниках, ни в каких бы то ни было других устных и письменных источниках. Тем не менее мотив этот был, по-видимому, распространен: отголосок его мы находим в упомянутом выше тексте Тверской летописи под 988 г. [525]Единственное, с чем можно сблизить сцену с Изяславом по ее внутреннему содержанию, — это неоднократно проявляющийся в северных сагах взгляд на сына как на члена рода матери (а не только отца), как на возможного заступника за нее и мстителя за ее родичей даже против собственного отца. Таким образом, в основе выступления Изяслава, подготовленного Рогнедой, лежит, может быть, не только попытка смягчить и растрогать Владимира неожиданным появлением Изяслава в критический и опасный для Рогнеды момент, но и те представления о кровнородственной связи по материнской линии, которые как пережитки глубокой древности восходят к матриархальной стадии родового строя [526]. Если стать на эту точку зрения, то Рогнеда выступает перед нами не только как энергичная и цельная женская индивидуальность, но и как представительница целой идеологии, основанной на родовых отношениях.
Читать дальше
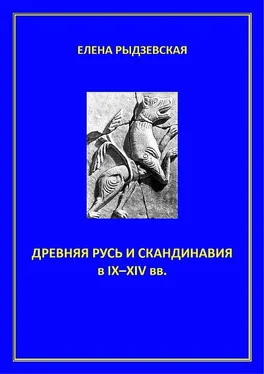

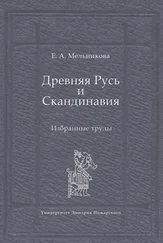


![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)