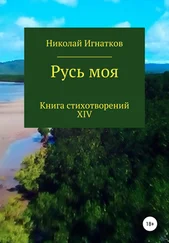Сага — всегда повествование о прошлом, и притом повествование, которое, как правило, принималось за правду (просто правду, а не «историческую» или «художественную» правду или сочетание того и другого), несмотря на то что в нем всегда в большей или меньшей степени наличествовал художественный вымысел. Типичный пример такого вымысла — высказывания упоминаемых в саге персонажей. Эти высказывания обычно приводятся в саге так же конкретно, как речи персонажей в драматическом произведении или реалистическом романе. Эти высказывания, конечно, художественный вымысел. Существенно, однако, что такого рода художественный вымысел не осознавался как вымысел: его позволяли себе, оставаясь в пределах того, что считалось просто правдой. Он был, так сказать, «скрытым вымыслом». Существенно также, что повествования какого-либо другого рода для Исландии эпохи написания саг были вообще невозможны.
Чем дальше в прошлом события, о которых рассказывается в саге, или чем дальше страна, в которой произошли эти события, тем больше в саге скрытого вымысла. Поэтому его всего меньше в сагах, написанных в XIII в. о том, что произошло в Исландии или Норвегии в XII или XIII в., например, в сагах, входящих в состав компиляции конца XIII в., известной под названием «Сага о Стурлунгах», или в саге о норвежском короле Хаконе Старом (1217–1263), написанной Стурлой Тордарсоном сразу после смерти этого короля.
В сагах, написанных в XIII в. о более ранних событиях, скрытого вымысла, естественно, больше. Так, его больше в «сагах об исландцах», т. е. сагах, написанных не раньше XIII в. о событиях в Исландии в X–XI вв. Историки древнеисландской литературы обычно считают даже, что все «саги об исландцах» — просто «художественная литература», своего рода «романы». Однако хорошо известно, что эти саги принимались их современниками за точно такую же правду, как и произведения, названные выше, т. е. что они вовсе не были «художественной литературой» в современном смысле слова.
«Саги о королях», написанные в XII–XIII вв. о событиях в Норвегии в X–XI вв., т. е. саги, в которых скрытого вымысла не меньше, чем в «сагах об исландцах», историки древнеисландской литературы обычно относят к «исторической литературе». Это объясняется, очевидно, тем, что в Норвегии в X–XI вв. были короли, была государственная власть, а они — обычный объект истории, тогда как в Исландии в X–XI вв. государственной власти не было и, следовательно, была, так представляют себе историки древнеисландской литературы, только «частная жизнь», а она — обычный объект художественной литературы.
Значительно больше вымысла в так называемых «сагах о древних временах», т. е. в сагах о событиях до заселения Исландии (до X в.) или о том, что произошло вообще неизвестно когда. В последнем случае вымысел был, вероятно, уже не скрытый, а явный, т. е. осознававшийся. По-видимому, такого рода саги еще в XII в. считались «лживыми». В них действительно могла отсутствовать какая-либо историческая основа. В «сагах о древних временах» была обязательно сказочная фантастика, и во многих из них описываются поездки в далекие, сказочные страны и особенно «на восток», т. е., в частности, в Гардарики, или Русь. Поэтому и в сагах, описывающих события X–XI вв., поездки в Гардарики обычно больше похожи на «сагу о древних временах», чем на сагу о более близкой эпохе.
Однако и «саги о древних временах» все же не просто «художественная литература» в современном смысле слова (хотя они, конечно, и ближе к ней, чем другие саги). Дело в том, что более ранние из этих саг явно основаны на древней (и часто — не сохранившейся) эпической поэзии.
Между тем во всякой эпической поэзии всегда наличествует, так сказать стихийно наличествует, та или иная историческая основа, т. е. историческая правда, как бы ни была она трудно прощупываемой.
В сущности, стихийность наличия исторической правды характерна для всех исландских саг, в частности и для тех, которые кажутся наиболее близкими к истории как науке. Стихийность объясняется, конечно, прежде всего тем, что авторы саг не осознавали себя авторами в современном смысле этого слова. Они наивно верили в то, что просто передают правду. Поэтому они и не были авторами в современном смысле этого слова. Тот, кто «написал» сагу, фактически мог быть не столько автором, сколько соавтором или редактором или даже просто переписчиком или, наконец, всем вместе.
Тем не менее, как ни обидно это может показаться историку, привыкшему смотреть свысока на своих средневековых коллег, в известном смысле они имели перед ним преимущество. Они были объективнее тенденциозной исторической науки нового времени: сознательное и последовательное проведение политической тенденции было для них так же невозможно, как сознательное авторство. В частности, даже при наличии какой-то политической концепции они не умели замалчивать факты, противоречащие этой концепции. Так, например, в сагах, написанных для прославления норвежских королей-миссионеров, полно фактов, выставляющих их миссионерскую деятельность в самом неприглядном свете. Впрочем, объективность саг и особенно «саг о королях», т. е. политических историй Норвегии, связана, конечно, и с тем, что эти саги были написаны исландцами, т. е. жителями страны, в которой развитие государственной власти задержалось (как известно, Исландия подчинилась норвежскому королю в 1262 г., да и то только формально).
Читать дальше
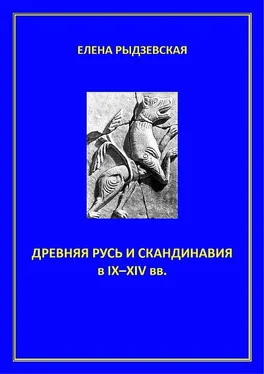




![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)