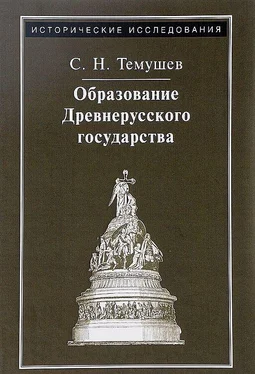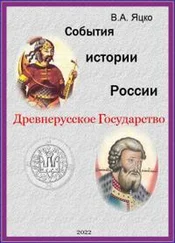Исследователи древнерусской литературы обращают внимание на тот факт, что для православных авторов высочайшими образцами для письменного творчества являлись Ветхий и Новый Заветы [16] Он же. Традиция и исторический факт в средневековой историографии: мотивы и числа (Историографические заметки)//Древнейшие государства Восточной Европы: материалы и истлел. 2003. М., 2005. С. 181.
. Более того, подражание священным текстам превращалось в риторический прием. Чрезвычайно важно, что в исторических и художественных произведениях православной славянской литературы отмечается присутствие особых «библейских тематических ключей», обнаруживаемых, как правило, в первых строках текста или во введении [17] Пиккио Р . Функция библейских тематических ключей в литературном коде православного славянства// Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М., 2003. С. 434, 437.
. Эти «ключи» позволяют читателю понять особый второй уровень прочтения. Это наблюдение в полной мере касается недатированного введения ПВЛ, в котором библейская история развития человечества от сыновей Ноя плавно перетекает в историю расселения славян в «жребии Афета», при этом непосредственно «временным летам» предшествует эпизод о грядущем избавлении полян от хазарского плена и одновременного обретения ими будущей Русской земли как земли обетованной [18] Петрухин В. Я. История славян и руси в контексте библейской традиции: миф и история в Повести временных лет//ДГ 2001 г. М., 2003. С. 102–103.
.
Несмотря на то что достаточно пространное введение ПВЛ не имеет дат, все же ключевые события начальной русской истории укладываются в определенные хронологические рамки. Так, рассказу о князе Кие предшествует предание о посещении Руси апостолом Андреем, а после помещено сообщение о проходе на Дунай болгар, а затем белых угров, которые «наследиша землю словеньску» [19] ПВЛ. С. 10.
. Угры, по сообщению летописца, появились («почаша быти») при императоре Ираклии, который правил с 610 по 641 г. [20] Толочко Π. П . Русские летописи и летописцы Х–ХІІІ вв. С. 58.
Действительно, из византийской Хроники Георгия Амартола летописцу было известно, что император Ираклий «…на персы исполчися, еще же призвавъ угры на помощь» [21] Истрин В. М . Хроника Георгия Амартола. Т. 1. С. 434.
. Но в данном случае, вполне вероятно, Нестор перепутал белых угров (хазар) и черных угров (мадьяров-венгров). Именно последние, как отмечает позднее сам летописец (под 898 г.), прогнали волохов и покорили славян по Дунаю («наследиша землю ту») [22] ПВЛ. С. 15.
. Таким образом, нельзя с полной определенностью утверждать, что «княжение» Кия имело место ранее правления императора Ираклия. Учитывая очевидную ошибку Нестора с определением времени подчинения венграми славян, нет уверенности в правильности отнесения исторических реалий предания о Кие и его братьях к более раннему периоду.
В целом значение «космографического введения» ПВЛ вполне выяснено современными исследователями: летописец в русле традиционной средневековой практики хронографии вводил историю своего народа в контекст всемирной истории, являющейся продолжением Священной истории [23] Петрухин В. Я . История славян и руси в контексте библейской традиции. С. 97.
. История страны — Русской земли — подключалась к всемирноисторическому процессу [24] Мильков В. В . Осмысление истории в Древней Руси. СПб., 2000. С. 22.
.
В исторической литературе прочную позицию занимает мнение о наличии в летописях двух версий происхождения Русской земли. Считается, что у Нестора была представлена «прокиевская теория происхождения Русского государства», ей противостояла «новгородская версия возникновения государственности на Руси, утверждающая в этом деле первенство Новгорода» [25] Фроянов И. Я . Два центра зарождения русской государственности// Фроянов И. Я . Начала Русской истории. Избранное. М., 2001. С. 752.
. Первая теория сводилась к исконности и непрерывности княжеской власти в Киеве со времен, не поддающихся датировке. Летописец имеет смутные данные о времени Кия, Щека и Хорива, но в то же время отвергает «непрестижную» версию происхождения Кия («яко Кий есть перевозникъ былъ»). Кий «княжаше в роде своемь», в Киеве он «живот свой сконча», здесь же «скончашася» его братья и сестра Лыбедь [26] ПВЛ. С. 9–10.
. Период отсутствия в Киеве княжеской власти характеризуется летописцем, как крайне неблагоприятное для полян время — они «обидимы древлями и инеми околними», а затем «наидоша я козаре» [27] Там же. С. 11.
.
Читать дальше