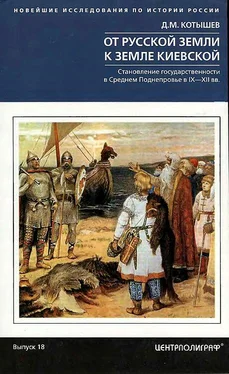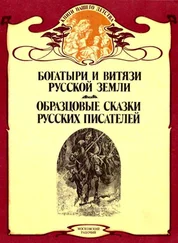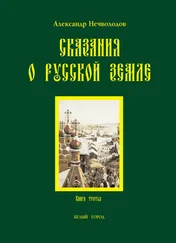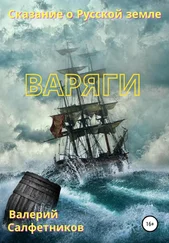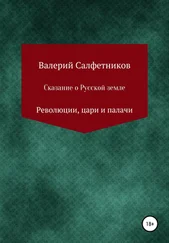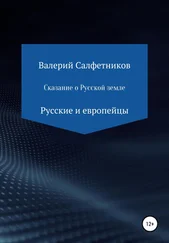Таким образом, подчинение древлян, полян и уличей, отразившееся в нарративе, позволяет примерно очертить границы первичной политии, зародившейся в Среднем Поднепровье, которую 37-я глава «Об управлении империей» именует χωρας της Ρωσιας (страна Росия). Речь идет о прилегающих к Киеву территориях с юга (предположительно от Витической крепости) к северу до Днепро-Деснинского междуречья. В этом ареале присутствие Руси определяется четким археологическим маркером — особыми поселениями и погребальными комплексами при них. В современной исторической литературе они определяются по-разному — «открытые торгово-ремесленные поселения» [284] См.: Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. С. 107.
, «погосты» [285] См.: Моця О.П . Погости в системі давньоруських населених пунктів//Археологічні студії. Київ, 2003. Вип. 2. С. 199–203.
, «дружинные лагеря» [286] См.: Шинаков Е.А. «Дружинные лагеря»//Стародавній Іскоростень і слов'янські гради VIII–X ст. Київ — Чернівці, 2004. С. 307–311.
и даже «многофункциональные военизированные поселения» [287] См.: Макушников О.А. Гомельское Поднепровье в V — середине XIII вв. Социально-экономическое и культурное развитие. Гомель, 2009. С. 78–95.
. Более приемлемой мне представляется характеристика, данная этому типу поселений А.Н. Бондарем, который определяет их как «укрепленные центры начального этапа становления Древнерусского государства» [288] См.: Бондарь А.Н . Укрепленные пункты на территории междуречья Днепра и нижнего течения Десны в конце IX–X вв.//Древнейшие государства Восточной Европы. 2010. Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 305.
. К подобным поселениям на днепровском Правобережье относятся в первую очередь киевское городище на Замковой горе [289] См.: Богусевич В.А . Розкопки на горі Киселевці//Археологічні пам'ятки УРСР. Т. III. Київ, 1952. С. 66–72.
и Китаевский комплекс под Киевом [290] См.: Мовчан I.I. Давньокиївська околиця. Київ, 1993. С. 159–160.
; левобережная территория представлена памятниками Табаевки [291] См.: Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. Киев, 1990. С. 124–125.
, Шестовицы [292] См.: Бліфельд Д.А. Давньоруські пам'ятки Шестовиці. Київ, 1977. С. 92–99.
, Клонова [293] См.: Моця А.П . Срубные гробницы Южной Руси//Проблемы археологии Южной Руси. Киев, 1990. С. 103–104.
, Седнева [294] См.: Самоквасов Д.Я. Могилы Русской земли. М., 1908. С. 201.
, Пересажа [295] См.: Ширинский С.С. Курганы X в. у деревни Пересаж//КСИА. 1969. Вып. 120. С. 106.
и Гущина [296] См.: Шекун В.А . Исследования на Черниговщине//Археологические открытия 1983 г. М., 1985. С. 374.
.
Впервые на возможность использования дружинных погребений в качестве маркера, очерчивающего границы Русской земли, обратил внимание В.Я. Петрухин. К погребениям такого типа исследователь относит камерные гробницы, представляющие собой «дружинные погребения Руси, еще сохранявшей скандинавские традиций» [297] См.: Петрухин В.Я . Начало этнокультурной истории Руси IX–XI вв. М.; Смоленск, 1995. С. 120.
. В то же время было сформулировано определение дружинной погребальной культуры, сегодня признанное большинством исследователей [298] Наиболее четкая формулировка была дана Ф.А. Андрощуком, см.: Андрощук Ф.А . Курганы в раскопках Д.Я. Самоквасова и «дружинная» погребальная культура//Слов'яни і Русь у наукової спадщині Д.Я. Самоквасова. Чернігів, 1993. С. 29.
. Сама эта культура носила полиэтничный, эклектический характер, являясь отражением неоднородного этнического состава руси [299] См.: Орлов Р.С. Явление бифуркации в дружинной культуре Древней Руси//Археологія і давня історія України. Київ, 2010. Вип. 1. Проблеми давньоруської та середньовічної археології. С. 151–155; Петрухин В.Я . Начало этнокультурной истории Руси. С. 95–101; Каинов С.Ю. Древнерусский дружинник второй половины X в. Опыт реконструкции//Военный сборник. Статьи и публикации по Российской военной истории до 1917 г. М., 2004. С. 11.
.
Сама русь к указанному времени все более утрачивала исходный скандинавский облик, превращаясь в определенную социальную общность-дружину, господствовавшую над местными славянскими объединениями. Эта эволюция и определила дальнейшую судьбу Русской земли. По точному замечанию А.С. Щавелева, русы вполне могли бы стать одной из периферийных народностей Восточной Европы, воспроизведя в других исторических условиях судьбу ранних исландцев [300] См.: Щавелев А.С. Русы/росы в Восточной Европе: модель инвазии и некоторые особенности интеграции в мире восточных славян (вторая половина IX–X в.)//Уральский исторический вестник. 2013. № 1 (38). С. 112.
. Однако сложившиеся условия направили эволюцию руси в иное русло: она не стала отдельной разновидностью «континентальных скандинавов», а начала превращаться в высший социальный слой, элиту формирующейся политии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу