Вне всякого сомнения, Аэций и его помощники были гениями красноречия, коль скоро им удалось склонить на свою сторону вестготов. А ведь вестготы люто ненавидели Аэция, десятилетиями воевавшего с ними и даже натравливавшего на них гуннов. Тем более ненавидели Аэция бургунды. Ведь именно Аэций отдал их народ гуннам на растерзание. Как отдавали христиан – на растерзанье хищным зверям в римских амфитеатрах до победы христианства над язычеством. И лишь когда стало ясно, куда и зачем идут гунны, когда они подступили к Аврелиану на Лигере, вестготы поняли, что за опасность грозит им самим, а не одним лишь только римлянам. Что же до Меровеха (Меровея), молодого князя салических франков, то ему не терпелось сразиться с Гундебавдом (Гундобадом), предводителем франков рипуарских, составлявших часть «Великой Армии» Аттилы.
Так сложилось ядро противогуннской обороны: 1) вестготы во главе с Теодорихом I; 2) римские военные формирования (спешно стянутые из галльских гарнизонов и из Северной Италии), во главе с патрицием Аэцием; и 3) салические франки во главе с Меровехом, сыном умершего в 448 г. царя Хлогиона-Хлодиона. Дадим теперь слово Иордану, или, точнее, Кассиодору в пересказе Иордана. Поскольку военных дневников участников тех боевых действий (если они их вообще вели) до нас – увы! – не дошло. Итак, по Иордану, Сангибан, царь аланов, «в страхе перед будущими событиями обещает сдаться Аттиле и передать в подчинение ему галльский город Аврелиан, где он тогда стоял. Как только узнали об этом Теодорид и Аэций, тотчас же укрепляют они город, раньше чем подошел Аттила, большими земляными насыпями, стерегут подозрительного Сангибана и располагают его со всем его племенем в середине между своими вспомогательными войсками» («Гетика»).
Согласно Иордану, гуннский царь Аттила «встревоженный этим событием и не доверяя своим войскам, устрашился вступить в сражение». Что вполне понятно. Нет для армии, осаждающей вражеский город, худшей ситуации, чем попасть под удар полевой неприятельской армии, спешащей на помощь осажденным. Чтобы с успехом выйти из такого положения, надо быть гениальным полководцем. Как, например, Гай Юлий Цезарь под осажденной им галльской крепостью Алезией. Под Аврелианом гунны оказались между двух огней. Мало того: если верить легендам, они уже ворвались в город и вели уличные бои с его защитниками (не забывая при этом грабить), когда на выручку аврелианскому гарнизону пришло объединенное войско вестготов и Аэция. Естественно, гунны были захвачены врасплох и не смогли оказать эффективного сопротивления. Впрочем, любое другое позднеантичное или средневековое войско повело бы себя на их месте не лучше. Потому что добыча для тогдашних воинов имела неизмеримо большее значение, чем для современных солдат. Из-за награбленной добычи арабы-мусульмане проиграли в 732 г. франкскому майордому Карлу Мартеллу битву при Пиктавии (нынешнем Пуатье). В 1689 г. 200 000 турок-османов, осаждавших Вену, потерпели поражение от пришедших на помощь столице Австрии 75 000 немцев, поляков и казаков (предполагаемых потомков черноморских готов), потому что осаждающие не желали расставаться со своей добычей и обозом. В силу аналогичных причин Аэций, используя фактор внезапности, одержал верх над гуннами под Аврелианом. Нам даже не известно, успели ли принять участие в разгроме гуннских войск вестготы. Или же они были только на подходе. Следует также заметить, что разгром гуннов не был полным. Ведь в осаде Аврелиана была задействована только часть «Великой Армии» Аттилы. Т.е. это был быстрый укус в холку хищной бестии – не более (но и не менее) того. Правда, Аттила теперь не мог форсировать Лигер. Поскольку в этом случае он бы отрезал себе пути отхода. Однако у него в арсенале оставалось несколько иных вариантов дальнейших действий:
1) отступать, ведя оборонительные бои;
2) бежать, не принимая боя;
3) дать неприятелю полевое сражение всеми наличными силами – и тем решить исход войны.
Из перечисленных выше трех вариантов Аттила выбрал третий, самый рискованный. Причем по двум причинам.
Во-первых, только полевое сражение с участием всех наличных сил могло принести гуннам полную победу над противником. В случае его проигрыша, можно было удовольствоваться богатой добычей, взятой во всех римских землях вплоть до Аврелиана, и пробиться домой, на Восток. Как гунны это делали и раньше, в ходе своих рейдов и набегов. В случае же выигрыша генерального сражения гунны получали колоссальный приз – не только богатую Галлию, но и всю Западную Римскую империю в придачу…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
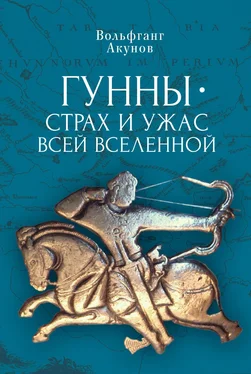
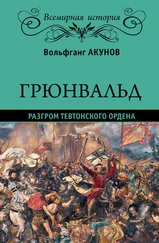


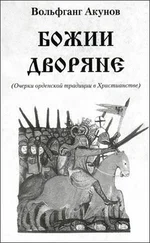
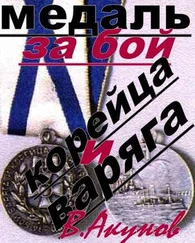



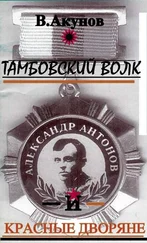

![Вольфганг Акунов - Держава Тевтонского ордена [litres]](/books/431069/volfgang-akunov-derzhava-tevtonskogo-ordena-litre-thumb.webp)