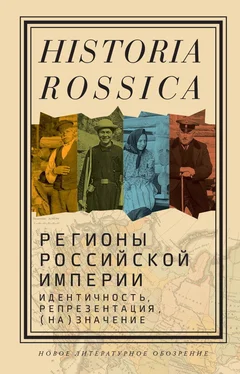И все же Словцов признает, что в его версии сибирской истории приглушены страдания коренных народов, подвергшихся русскому завоеванию. Отмечает он и то, что имперские проекты часто оказывались для Сибири серьезным бременем – от петровских рекрутских наборов, ударивших по деревням, до обеспечения провизией научных экспедиций, которое было столь тяжело для якутов. Но когда речь шла о создании нового, затраты отходили на второй план. О победе Петра под Полтавой Словцов писал так: «…история постыдила бы свой сан, опорочила бы перо, если бы… вздумала сетовать о жертвах. Жертвы, труды и народные испытания велики, невозвратны, но они принесены на святой жертвенник отечества» [257].
Словцов полагал, что придет время, когда бессмысленно станет говорить о какой-то отдельной сибирской истории. Это соответствовало его взглядам на историю в целом: «Если время для человека есть прогрессия опытов, а не выкладка мгновений протекших, то история должна быть знанием не обыденных происшествий, а опытов изведанных, опытов, выражающих истины, раскрытые среди известной страны. Отсюда выходит разность между летописью и историей, отсюда рождается еще вопрос: всегда ли Сибирь, доныне продолжающая свои летописи, будет иметь отдельную историю?» [258]На свой собственный вопрос Словцов ответил в предисловии ко второму тому «Исторического обозрения…»: «…история Сибирская есть добавка к Русской… Не трудно предвидеть время, когда законодательство и образованность умственная, поравняв Сибирь с Россиею, тем самым закончат отдельность здешней истории» [259].
В этой телеологической перспективе следует рассматривать и словцовскую периодизацию сибирской истории. Рассказывая читателю о том, что правительство относилось к Сибири с все возрастающей «заботливостью», Словцов указывал, что, по сути, вся история Сибири – это «летопись правительственной опеки над страною, так сказать, несовершеннолетнею» [260]. По мнению историка, государство не сразу осознало, в чем состоит его роль: «промышленность звериная познакомила Россию с северною полосою Восточной Азии», она «заманила Россию в Сибирь». «Правительство, – пишет Словцов, – с лишком полтора столетия, не иначе как по частной идее усвоения промышленности, управляло судьбою сей страны, не вдруг обратившей на себя лучшее воззрение» [261]. Таким образом, в первый (1585–1662) и второй (1662–1709½) периоды сибирской истории, по Словцову, главной задачей, реализовывавшейся здесь, был сбор ясака: в первый период – в основном «наобум», а во второй – все чаще «по направлениям начальств и самого даже правительства» [262]. В третий же период истории Сибири (1709½–1742, от Полтавской победы до восхождения на престол Елизаветы Петровны) возникли новые формы государственной опеки: «а) заботливость о распространении просвещения христианского и учебного, б) заботливость об улучшении образа управления, в) заботливость об умножении металлов извне и о домашнем распространении заведений металлических, г) заботливость об обеспечении сухой сибирской границы и об узнании границы приморской» [263]. Даже если какие-то из них были не во всем и не всегда эффективны, полагает Словцов, все виды «заботливости» способствовали переменам в регионе: «Народный характер русского поколения, некогда самовольный, дерзкий, необузданный, смягчился от частых наборов, налогов и от самих притеснений местной власти, то воинской, то воеводской. Замечаемые ныне в народе молчаливость и кротость есть плод практической школы» [264]. В четвертый период (1742–1765, от начала правления Елизаветы до разделения Сибири на губернии) все эти формы сохранялись и гуманизировались: «Законодательство, после милосердной отмены смертной казни, после отмены истинно бессмертной, становилось от времени до времени человеколюбивее и великодушнее» [265].
Итак, для Словцова магистральный вектор сибирской истории состоял в том, чтобы расширять представление о роли государства в этом регионе – и особенно в том, чтобы постепенно переходить от узкокорыстных целей к пониманию общего блага. Этот процесс не мог совершиться быстро: «Всеблагое Провидение постепенно ведет людей, племена и народы чрез цели частные, общественные и государственные к целям своего высшего порядка. Не вдруг, конечно, могло статься, чтобы Россия, предназначенная к духовному и потом умственному восхождению, осветила тьму северо-восточного материка» [266]. Расстояние между Сибирью и столицей превратило ее в «безгласную область», где чиновники могли почти бесконтрольно злоупотреблять властью: «воля человеческая вместо того, чтобы стремиться к уменьшению зол, нередко уносится в особенные беспорядки в дальнем краю, где она не подозревает надзора» [267]. Но и критикуя эти нарушения, Словцов не терял надежду на то, что история Сибири идет правильным путем. Он сравнивал тех, кто был объят «своеволием», с теми, кто честно служил государству, или действовал в соответствии с «промышленническим духом». «Верный слуга государя и государства» воевода А. Ф. Пашков заслужил похвалу Словцова своим «благоразумием», которое в XVII веке оказалось столь важно для укрепления российской власти над землями вокруг Иркутска и их жителями [268]. Полной противоположностью ему для Словцова был знаменитый Е. П. Хабаров, чьи экспедиции вниз по Амуру казались историку продиктованными исключительно корыстью: «Этот необыкновенный посадский, необдуманными обещаниями увлекший легкомысленного воеводу, по сие время не усчитан в уронах, в бедствиях, какие он нанес краю, всей Сибири и даже государству… при всеобщей неурядице, господствовал один дух ясака и грабежа» [269].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу