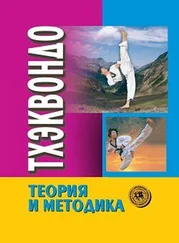Важность фильма, однако, состоит не столько в его виртуозной демонстрации «вещности», сколько в постепенной артикуляции нарратива о субъективности, в постепенном складывании определенной биоисторической телеологии, которая только лишь намечалась в «Селкинчеке». Одиночество мальчишки из горного села наконец-то оказывается сюжетно мотивированным. Во время потасовки с одним из своих друзей Бешкемпир узнает, что он — приемный сын, подкидыш, брошенный матерью. История об инфантильном одиночестве быстро трансформируется в историю об экзистенциальном отторжении. «Автономия» одинокого мальчишки оказывается не просто неоромантической метафорой экзистенциальной неприкаянности, а следствием неукорененности в социальных отношениях — социальным сиротством. Как я покажу чуть позже, в условиях, когда социально-политические институты оказываются сведенными к сетям родства («кланы» и «семьи»), подкидыш символизирует не только жизнь вне истории, но и жизнь вне этнографии.
На протяжении фильма, таким образом, развертывается любопытная аллегория: вынужденное признание сиротства как отсутствия фундаментальной (кровной) привязанности и принадлежности воспринимается как первичная травма, которая в конечном итоге находит счастливое романтическое разрешение. В финале фильма подросток добивается признания своей девушки, и преимущественно черно-белый фильм завершается метафорической кодой, снятой в цвете, в которой Бешкемпир и его подруга, играя с нитками на фоне традиционного лоскутного ковра курак, плетут сеть — новых? родственных? — связей.
Этнографический минимализм фильмов Арыма Кубата, их навязчивый интерес к сельскому (если не сказать примитивному), их нарциссическая завороженность собой вполне могут быть объяснены требованиями и ожиданиями мира фестивального кино. Популярность и востребованность этих фильмов на международных кинофорумах — это хорошее подтверждение того, что киноистории сиротства, рассказанные с помощью вещей, оказываются достаточно убедительными. И все же, на мой взгляд, пластический язык этих фильмов отражает больше, чем просто художественные установки режиссера (или его биографию). Снятые на фоне распада СССР, эти истории о медленном и болезненном процессе осознания своей отдельности и отделенности сложно не воспринимать как желание проговорить на публике постсоветский опыт разрыва родственных связей, опыт отторжения и постепенного выстраивания новых отношений причастности и принадлежности.
«Селкинчек» и «Бешкемпир» серьезно повлияли на структуру воображения, связанного с независимостью Кыргызстана. Фигура сельского ребенка станет стандартным тропом в языке визуальных искусств независимой страны. Потенциал инфантильной позиции не останется незамеченным и среди политиков. Ссылки на «молодое киргизское государство», которому еще предстоит выучить цивилизационные уроки, будут популярным тропом в политическом языке республики. Разумеется, было бы наивно увязывать напрямую поэтические кинообразы и политическую риторику; но нельзя не замечать, что в обоих случаях символическое производство опирается на сходный словарь выразительных средств, и разнообразные нарративы настоящего выстраиваются в ходе диалога между метафорами сиротства и родства.
В завершение статьи я хочу показать, как тема сиротства и отказа в родстве воспроизводится в поле дискуссий о национальном суверенитете и национальном происхождении. Как и фильмы Арыма Кубата, тексты, о которых пойдет речь, ориентировались прежде всего на формирование публичного дискурса с помощью исторических связей и ассоциаций. В качестве своеобразного моста ко второй группе примеров о политике родства я использую еще один кинематографический текст.
Тема разорванных семейных уз, затронутая в «Селкинчеке» и «Бешкемпире», была предельно драматизирована в фильме «Плач матери о манкурте» (2004, 82 мин.), снятом режиссером Бакытом Карагуловым по легенде из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Айтматов принимал участие в подготовке сценария, и этот факт придает основной идее фильма особую значимость: модернистский писатель в данном случае исполнил роль певца архаичного прошлого.
Роман Айтматова впервые вышел в свет в 1980 году в ноябрьском номере московского журнала «Новый мир». Он предложил серию неожиданных рефлексий по поводу советской модернизации в Средней Азии: Байконур с его космическими запусками не просто соседствовал в романе со скотоводами-кочевниками, разводящими верблюдов. «Природные» метафоры и символы традиций ставили под сомнение радикализм советского модернизма. История о манкуртах — людях, забывших о себе и своем прошлом, — была одной из «вставных» легенд, вошедших в роман. Она рассказывала о китайских племенах жуан-жуаней, которые создали в X веке эффективную биополитическую индустрию производства символов устрашения местного населения с помощью представителей этого населения. Пойманных «аборигенов» жуан-жуани лишали памяти о себе и своих родственниках, превращая людей в сгусток мускульной энергии и ходячий символ безумства от беспамятства. Производство амнезии заключалось в особой операции: сырую шкуру верблюда разрезали на куски и затем тесно повязывали вокруг обритой головы жертвы. Жертву затем оставляли в степи под палящим солнцем. Если жертва не погибала от голода и жажды, она могла погибнуть от мук, доставленных ссыхающейся кожей, которая сдавливала череп. Более того, волосы жертвы прорастали сквозь шкуру, превращая орудие пытки в часть тела жертвы. Тех, кто выживал в процессе такой пытки, называли манкуртами — людьми, не только лишенными связей, памяти, языка и прошлого, но и несущими на себе материальное свидетельство этой лишенности. Орудие пытки оказывалось со временем структурой давления, жизнь без которого была уже невозможной.
Читать дальше
![Коллектив авторов Все в прошлом [Теория и практика публичной истории] обложка книги](/books/430176/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika-cover.webp)