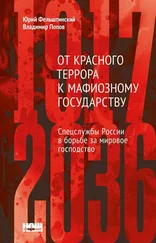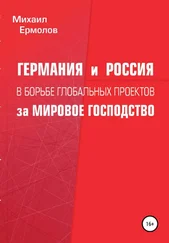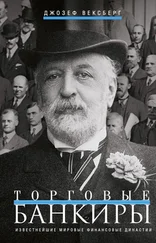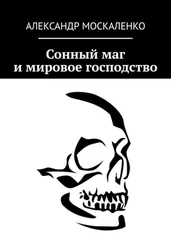И все же принятие Испанией чрезмерных обязательств, связанных с ведением войн за рубежом, в то время, когда Кастилия не имела для этого ни экономических, ни демографических ресурсов, нельзя так просто приписать слепоте одного человека. Скорее, это отражает несостоятельность целого поколения правящего класса. Кастилия XVII века стала жертвой собственной истории. Она отчаянно пыталась возродить имперскую славу более ранней эпохи, будучи уверенной в том, что только таким способом сможет излечить свою политическую систему от болезней настоящего времени. То, что Кастилия отреагировала именно таким образом, не было чем-то неизбежным, но, благодаря масштабу ее триумфа в предшествующую эпоху, стало наиболее вероятным. Трудно повернуться спиной к прошлому, отмеченному такими многочисленными успехами, и еще труднее, когда эти успехи ассоциируются с самой квинтэссенцией страны. Ведь разве не были эти успехи следствием воинской доблести кастильцев и их беззаветной преданности вере?
Одна из трагедий истории Кастилии заключалась в том, что в конце царствования Филиппа I она пребывала в таком состоянии, когда казалось, что соответствия новым экономическим реалиям можно добиться только ценой отказа от самых почитаемых кастильских идеалов. Какими бы суровыми ни были предупреждения arbitristas обществу, взращенному на войне, ему трудно было найти достойную замену боевой славы в утомительных подробностях купеческих гроссбухов или признать высшую ценность упорного каждодневного труда, который оно привыкло презирать. Не менее трудным для этого общества было примерить на себя идеалы и опыт иноземцев, тем более что эти иноземцы так часто оказывались еретиками, и инстинктивное недоверие Кастилии к внешнему миру значительно усилилось в результате европейских религиозных революций XVI века. Благодаря трагическому стечению обстоятельств чистота веры в период царствования Филиппа II стала отождествляться с принципиальным неприятием идеалов и ценностей, распространявшихся в других частях Европы. Такое отождествление привело к частичной изоляции Испании от внешнего мира, заметно сузившей горизонты национального развития и снизившей ее способность адаптироваться к новым обстоятельствам за счет развития новых идей.
Тем не менее неистовая реакция Испании на религиозный переворот XVI века требует более сочувственного понимания, чем то, которое она обычно встречает, поскольку Испания столкнулась с более сложной проблемой, чем те, что стояли перед другими государствами христианского мира. Только Испания являлась мультирасовым обществом, в котором взаимное проникновение христианских, иудейских и мавританских верований создавало постоянную проблему для становления национальной и религиозной идентичности. У этой проблемы не было очевидного решения. Закрытие границ и настоятельное требование самой жесткой ортодоксии стало отчаянной попыткой решить проблему беспрецедентной сложности, и неудивительно, что религиозное единообразие представлялось единственной гарантией национального выживания для страны, обладавшей самым экстремальным расовым, политическим и географическим разнообразием. Цена принятия такой политики в конечном счете оказалась очень высокой, но вполне понятно, что цена ее непринятия казалась современникам еще выше.
Если политика, проводимая Филиппом II, сделала задачу его преемников несравнимо более сложной, то они сделали ее по-настоящему неразрешимой. Некоторые аспекты карьеры Оливареса позволяют предположить, что в то время еще оставалось некоторое пространство для маневра и у Кастилии еще была определенная свобода выбора. Эта свобода была утеряна за полвека после 1640 года отчасти из-за трагических событий эпохи Оливареса, отчасти из-за несомненной бездарности ее правящего класса в тот момент, когда монархии, чтобы избежать катастрофы, требовались высочайшие государственные таланты. Здесь мы имеем дело с несостоятельностью отдельных личностей, наложившейся на коллективную несостоятельность общества, так глубоко разочарованного непрерывной чередой превратностей, что оно утратило даже способность протестовать.
Очевидную роль в этой катастрофе сыграла деградация династии, но, помимо этого, поражает контраст масштаба личностей министров, вице-королей и чиновников, представлявших государственную машину при Карле V, и тех, кто представлял монархию Карла II. На этом фоне более чем просто крупная фигура графа-герцога Оливареса видится последней в героической линии, придавшей блеск монархии XVI века и подарившей Испании таких людей, как дипломат, поэт и военачальник Диего Уртадо де Мендоса (1503–1575) или Франсиско де Толедо (1515–1582), великий вице-король Перу. Упорное сетование Оливареса на «отсутствие лидеров» говорит о стремительном упадке правящего класса страны после ухода последнего поколения великих испанских проконсулов – поколения графа Гондомара (1567–1626). Однако удовлетворительного объяснения этого внезапного коллапса до сих пор не дано. Следует ли искать его в слишком большом количестве близкородственных браков среди аристократов? Или в провале системы образования страны, сузившем ее ментальные горизонты? Ведь разве не был Диаго Уртадо де Мендоса продуктом «открытой» Испании Фердинанда и Изабеллы, точно так же, как герцог Мединасели – продуктом «закрытой» Испании XVII века? Люди XVII века принадлежали обществу, утратившему силу, идущую от инакомыслия. Они были лишены широты взглядов и силы характера, необходимых, чтобы порвать с прошлым, которое больше не могло служить надежным ориентиром для будущего. Наследники общества, которое слишком много вложило в империю, окруженные жалкими остатками непрерывно убывающего наследства, в момент кризиса они не смогли заставить себя отказаться от своих воспоминаний и сменить прежний образ жизни. В то время когда лицо Европы менялось, как никогда, быстро, стране, которая когда-то была ведущей державой, не хватило для выживания самого главного – готовности к переменам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
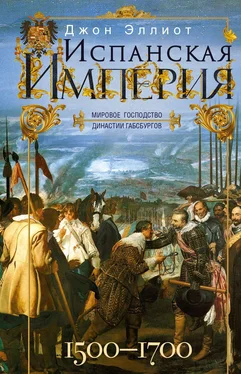
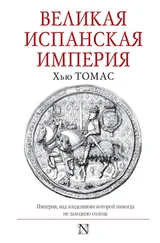
![Джон Бальфур - Османская империя [Шесть столетий от возвышения до упадка, XIV–ХХ вв.]](/books/26739/dzhon-balfur-osmanskaya-imperiya-shest-stoletij-ot-thumb.webp)
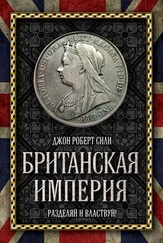
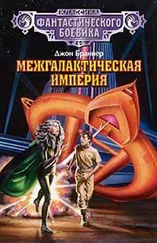

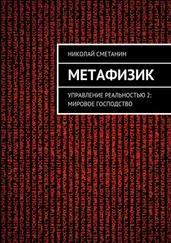
![Джозеф Вексберг - Торговые банкиры [Известнейшие мировые финансовые династии] [litres]](/books/390296/dzhozef-veksberg-torgovye-bankiry-izvestnejshie-mir-thumb.webp)