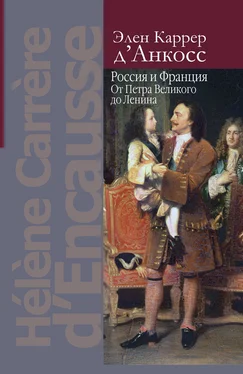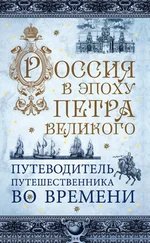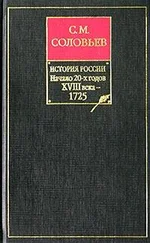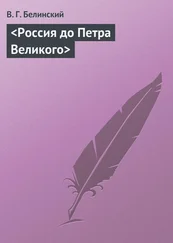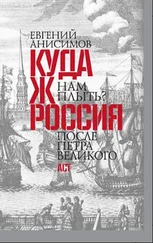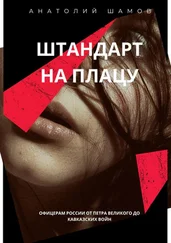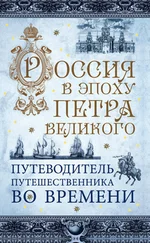Война, которая второй раз за один век и самым ужасающим образом противопоставила русские и французские армии, началась со ссоры из-за святых мест. В 1840 году Франция получила подтверждение своих предыдущих договоров и прежде всего договора, заключенного Франциском I и Сулейманом Великолепным, дающего ей право на защиту святых мест. Россия, ставшая при Екатерине II великой державой, в свою очередь, обрела нечто вроде протектората над православным населением Османской империи, а Кючук-Кайнарджийский мирный договор закрепил ее статус защитницы христиан. Франция, прежде всего заботящаяся о судьбе католиков, в большей или меньшей мере оставила России защиту всех других конфессий; таким образом, религиозное присутствие России на Востоке увеличилось в ущерб Франции и Порте, поскольку Османская империя насчитывала 11–12 миллионов подданных православного вероисповедания, на осуществление определенного суверенитета над которыми претендовала Россия. Конфликт вспыхивает в начале 1853 года и внешне не имеет серьезного значения. Его причиной послужил доступ в вифлеемский храм, которым ведала Россия. Россия выразила протест против «попрания прав православных», напряжение возрастало, русская общественность пришла в негодование. Возникла идея встречи двух императоров для разрешения религиозного конфликта, который мог принять международный масштаб. Несмотря на обмен корреспонденцией, вопрос о святых местах не будет разрешен. Николай I приходит в ярость из-за нарушения, по его мнению, обязательств, взятых на себя султаном, и требует восстановления своих прав. В начале февраля он отправляет к султану посла с миссией раз и навсегда урегулировать проблему святых мест. Этим послом стал князь Александр Меншиков, правнук фаворита Петра Великого, сражавшийся с турками в 1828 году. Он – генерал-адъютант, адмирал, морской министр и генерал-губернатор Финляндии, его звания намеренно рассчитаны на то, чтобы впечатлить турок, как и размещение русских войск на молдавской границе в тот же момент. Князь-генералиссимус, сопровождаемый значительной военной свитой, сначала останавливается в Одессе, где производит смотр войск, затем в Севастополе – все эти знаки призваны напомнить его османскому собеседнику о мощи России и ее амбициях в регионе. В течение месяца наблюдатели задаются вопросом о миссии Меншикова; его речи действительно неопределенны. Но 19 апреля он направляет министру иностранных дел Порты Рифат-паше крайне резкую ноту, где повторяет все требования, которые выдвинул ему в ходе предыдущих переговоров. Россия хочет, чтобы дипломатическая конвенция подтвердила русский протекторат над христианами Востока, а Порта приняла на себя обязательство его уважать. 5 мая Меншиков предъявляет ультиматум, дающей Порте пять дней на подписание договора с Россией на основе требований, сформулированных в апрельской ноте. Через пять дней приходит ответ турок. Порта уверяет Россию, что намерена принять все меры, необходимые для защиты православных христиан, но отказывается передать России часть своего суверенитета. Неудача Меншикова очевидна, он прерывает переговоры и демонстративно покидает Константинополь. Турция поступила подобным образом, потому что знала, что найдет поддержку. Прежде всего у Франции, которая с конца марта отправила в греческие воды свой флот. Затем, в более скрытной манере, у Англии. С января воинственные проекты Николая I уже ни для кого не секрет. Действительно, 9 и 14 января император в ходе двух бесед с сэром Гамильтоном Сеймуром, послом Англии в России, объясняет ему, что «больной» при смерти и настало время организовать то, что придет ему на смену. Сербия, дунайские княжества, Болгария станут независимыми государствами под протекторатом России. Что же касается Константинополя, то Николай намеревается стать не его властелином, но хранителем . Англия сможет распоряжаться турецкими территориями по своему усмотрению, за исключением Константинополя. «Я говорю с Вами как джентльмен и друг, что же касается остальных, их мнение для меня неважно, если мы с вами согласны», – добавил Николай. «Остальные» – это прежде всего Франция и Австрия в придачу. В 1853 году Николай не может и предположить, чтобы Франция, вернувшаяся к наполеоновской традиции, могла заключить союз с Англией, он считает ее еще находящейся в плену старых споров. Но его цинизм, неосторожность слов, сказанных лорду Сеймуру, производят на английское правительство такое впечатление, что оно намерено предпринять попытку сближения с Францией.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу