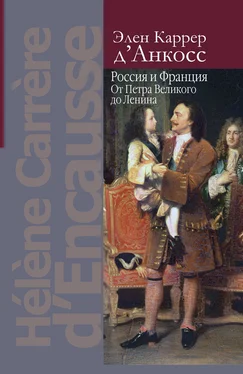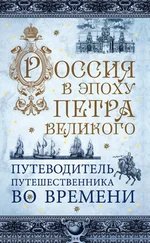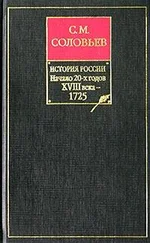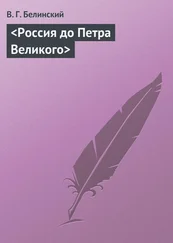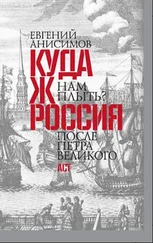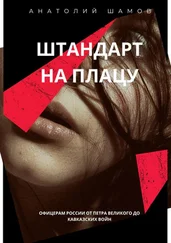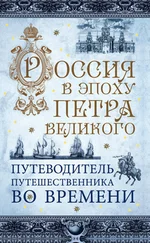Николай I, который окрестит Османскую империю «европейским больным», был полностью согласен со своим министром и еще более решительно настроен на урегулирование османского вопроса, чем его брат в конце своего царствования. Не желая затронуть интересы своих европейских партнеров, Александр I воздержался от поддержки борьбы греков. Николай I и Нессельроде приняли противоположное решение и потребовали от Порты прекращения преследования греков. Они также настояли на получении извинений и репараций за ущерб, нанесенный православному населению в ходе резни в Константинополе, и за оскорбления в адрес своего посла. Николай I ссылается в этом вопросе на Кючук-Кайнарджийский и Бухарестский мирные договоры, но также на обязательства по защите христиан, принятые на себя европейскими странами.
В марте 1826 года Нессельроде предъявил Порте ультиматум с рядом требований: уход из дунайских княжеств, занятых турками после восстания 1821 года, соблюдение Бухарестского договора в том, что касается автономии Сербии и освобождения сербских пленных, заключенных в Константинополе, отправка полномочного представителя Османской империи для урегулирования всех споров. Порта сопротивлялась, но под европейским, в частности французским, давлением подписала 26 сентября 1826 года Аккерманскую конвенцию, подтверждающую Бухарестский договор, включавший положения об автономии Молдавии и Валахии под управлением господаря, который избирался на 7 лет и не мог быть лишен своих полномочий без согласия России, об окончательной передаче России спорных территорий на границе с Азией, о свободном проходе русских судов из Черного в Средиземное море. Греческий вопрос, оставленный Александром I без решения, Нессельроде также взял в разработку. Веллингтон находился в Петербурге, и Нессельроде подготовил совместно с ним протокол соглашения, поддержанный Францией и представленный Порте тремя державами. Это соглашение признавало автономию Греции, сохраняя притом суверенитет над ней Порты. Греция, гласило оно, должна платить Османской империи подать, но управляться властями, которые будет выбирать сама. Права турок, живущих в Греции, сохранялись, они могли эмигрировать и получить возмещение за недвижимость. Эти положения Порта сочла неприемлемыми. Тогда три державы заключили Лондонский договор, навязывающий их посредничество воюющим сторонам – Турции и Греции. Константинополь расценил его как настоящее объявление войны, и в ответ турецко-египетская армия высадилась в Морее. Она столкнулась с тремя западными эскадрами, имевшими задачу помешать войне на Пелопоннесе. Турецкий флот был уничтожен в Наваринской бухте 20 октября 1827 года, пушечные залпы, приветствующие победу трех союзников, возвещали также о рождении независимой Греции.
Султан, не желающий признать своего поражения, потребовал извинений и возмещения понесенного им ущерба. Во всех мечетях был брошен призыв к священной войне.
А наваринские союзники в этот момент разошлись во мнениях: Англия сожалела об уничтожении турецкого флота, озабоченная российским могуществом, и работала над новой стратегией; Франция, напротив, хотела продолжения войны и отправила в Грецию армейский корпус под командованием генерала Мезона. Корпус высадился в Морее, обратил в бегство турецко-египетские силы, изгнав их даже с самого полуострова. Что же касается Николая I, то он объявил войну Турции. В то время как силы фельдмаршала Витгенштейна перешли через Прут, силы Паскевича проникли в Малую Азию, русские заняли Молдавию и Валахию, переправились через Дунай, захватили Варну, а в Азии взяли приступом крепости Карс и Ахалцих.
Масштабы военных успехов России вызвали беспокойство европейских держав, и прежде всего Англии и Австрии, приведя к их сближению. Карл X, внимательно следящий за развитием событий, сделал из этого следующий вывод: «Если будет произведено нападение на Австрию, я подумаю о мерах, которые следует принять, если же та нападет на Россию, я тут же приду к ней на помощь». Его логику легко понять: Карл X помнит о договорах 1815 года и надеется получить возможность воспользоваться конфликтом на Востоке для восстановления положения своей страны. Поддерживая Россию на Дунае, он рассчитывал получить взамен поддержку России в продвижении Франции к левому берегу Рейна. Нессельроде так подытоживает подразумеваемую суть соглашения двух стран: «Франция – против статус-кво в Европе, Россия – против статус-кво на Востоке». Сближение с Францией подтолкнуло Россию к быстрым действиям. Паскевич захватывает Эрзерум, разбив две турецкие армии, в то время как в Европе генерал Дибич разбивает силы великого визиря, который теряет 5 000 человек и значительное количество военного снаряжения. Затем, заперев турок в Шумле, он завоевывает Адрианополь, второй по значению город Османской империи. Разбитая, истощенная Порта вынуждена заключить в Адрианополе два мирных договора. Первый, с европейскими державами, закрепил присоединение Порты к июльскому договору 1827 года и признание независимости Греции. Второй, подписанный с Россией, содержал положения, касающиеся турецких территорий, переходящих к России, и гарантии для Молдавии, Валахии и Сербии, провозглашал Босфор и Дарданеллы свободными и открытыми для держав, находящихся в мире с Портой, наконец, предоставлял российским торговым судам полную свободу судоходства в Черном море. Подобным усилением своих позиций на Балканах и в Черном море Россия была обязана своему союзу с Францией. Приобретя такую мощь, Россия могла бы нанести решающий удар по позициям Османской империи в Европе и получить дунайские княжества и Армению, уже не заботясь о враждебной реакции великих европейских держав. Но Николай I внимательно слушал советы Нессельроде, говорившего ему, что турецкая империя должна быть сохранена, что ее сохранение – в интересах России. Ослабить ее необходимо. Но не разрушить. Иначе у европейских держав проснется стремление поучаствовать в разделе ее останков. Эта концепция объясняет, почему почти сразу же после заключения Адрианопольского договора царь соглашается на снижение суммы компенсации, зафиксированной в договоре, и решает вывести войска из Молдавии и Валахии на 5 лет раньше запланированной даты. Поступая таким образом, он шел по стопам своих предшественников, Екатерины II и Александра I. Оба уже занимали княжества, Екатерина – в 1769 году, Александр – в 1810-м. Но первая освободила их в 1791 году, по условиям Ясского договора, чтобы удовлетворить требования австрийцев, второй сделал то же самое в 1812 году, следуя условиям Бухарестского договора, чтобы наилучшим образом подготовиться к борьбе против Наполеона. Николай I последовал их примеру, решив освободить эти области, для них в 1834 году будет разработан организационный статус, одобренный турками. Это заложит основу будущего Румынского королевства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу