Позволю себе привести пример удачного, на мой взгляд, использования этого метода. Ф. Артог убедительно показал, что скифы в IV книге Геродота должны расцениваться как хитрые эфебы, а точнее — как эфебы-охотники и кочевники [1177]. Таким образом, у Геродота греческая эфебия, институт, который мы видели сначала в гомеровском мире, становится семантической категорией, или, в терминах К. Леви-Стросса, «символическим оператором» [1178]. Артог напоминает нам также знаменитое отождествление скифов с эфебами у элейцев, о котором сообщает «Лексикон» Фотия [1179]. Аттические вазы предоставляют некоторое подтверждение изложенного, однако более хрупкое, чем то, на котором я основывал свое рассуждение о черных хламидах. Скифские лучники, охотники и эфебы, как показал Ф. Лиссарраг, взаимозаменяемы в изображениях на них, причем все они противопоставляются гоплитам [1180]. Парис-Александр в вазописи эквивалентен одному из этих скифских стрелков [1181]. Но если эфебия становится семантической категорией, то это, разумеется, происходит потому (и это известно Ф. Артогу и Ф. Лиссаррагу), что она всегда была и всегда ощущалась именно греческим институтом [1182].
Я отвлекся от изучаемого института, уйдя в разбор того, как он ощущался или угадывался в гомеровских текстах. Был ли он общегреческим институтом? Это предположение возможно, однако его, видимо, невозможно доказать. Вполне вероятно, что разные типы полисов, развиваясь, породили очень разные формы и функции рассматриваемого института.
В Афинах государственная эфебия, включавшая юношей от 18 до 20 лет, стала отличаться от эфебии во фратриях, куда входили 16-18-летние [1183]. В знаменитой 42-й главе «Афинский политии» Аристотеля, которая касается гражданства, эфебы описываются как категория граждан [1184]. В то время, т. е. в годы, последовавшие за принятием в 335/ 334 г. поддержанного Ликургом [1185]«Закона об эфебах» Эпикрата, эфебия была двухгодичной военной службой, обязательной для всех молодых граждан. Эту службу они несли в основном в крепостях на границах, и ничто в ней не напоминало об инициационных обрядах, кроме ограничений, о которых Аристотель говорит следующее: «они несут гарнизонную службу в течение двух лет и в это время одеваются в хламиды и освобождаются от всех повинностей. Чтобы не было предлога отлучаться, они не выступают перед судом ни как ответчики, ни как истцы, за исключением дел о наследстве или единственной наследнице-родственнице или если кому-нибудь в его роде придется выполнять жреческие обязанности. По истечении же двух лет они становятся как остальные» (Ath. Pol. XLII. 5).
Мы можем усмотреть в этом тексте пережиток обряда изоляции инициируемых, хотя во времена Ликурга и Аристотеля такого обряда уже не было. И, однако, как я уже отмечал [1186], допущение в состав граждан путем записывания в дем отца предшествует военной службе, а не является ее следствием [1187]. Разумеется, такая ситуация — результат долгой эволюции. Мы знаем, что эфебия существовала до Ликурга [1188], благодаря Φ. Готье мы знаем также, что в то время, когда Ксенофонт писал свои «Доходы» (ок. 335 г. до н. э.), ее проходили не все молодые граждане [1189]. Мы знаем, наконец, что Эсхин «по выходе из детского возраста» был peripolos, т. е. эфебом (ок. 371 г. до н. э.) [1190], это не означает, конечно, что система призыва по возрастным классам существовала с этого времени [1191]. Однако все эти данные не позволяют нам утверждать с полной уверенностью, что данный институт существовал (в какой форме?), скажем, уже во времена Перикла [1192].
Чтобы продвинуться в решении данной проблемы, следует, по-моему воспользоваться другим методом: сопоставлениями внутри всего греческого мира, а не только Афин, Спарты и Крита, как я делал в 1968 г. Некоторые ученые, кажется, по-прежнему считают, что после «гоплитской реформы» фаланга непосредственно сменила так называемый «гомеровский поединок» [1193]. В другом месте я попытался показать, что гомеровский поединок с исторической точки зрения является фикцией [1194]. Вне всякого сомнения, безличная фаланга — это, в свою очередь, такая же фикция. В действительности большинство греческих полисов воспитывали элитарные подразделения из трехсот или тысячи воинов, иногда носящие архаичные названия: «всадники» (ιππείς) — в Спарте, «возницы» (ηνίοχοι) и «колесничие» (παράβαται) — в Фивах [1195].
Такие подразделения существовали в Спарте и Афинах, на Крите и в Аргосе, в Мегарах и Элиде, у фокейцев [1196]и в Сиракузах. Речь не идет в данном случае об окаменевшем институте, переходившем из века в век без изменений. Ксенофонт описывает всадников как юношей, набиравшихся в количестве 300 человек тремя гиппагретами (Lac. pol. IV. 3), но в сражении при Фермопилах Леонида сопровождали триста воинов, набранных не только из числа всадников. В его отряде, кроме обычного подразделения из трехсот человек, было некоторое количество отцов семейств: έπιλεξάμενος άνδρας τε των κατεστεώτων τριηκσίων και τοίσι έτύγχανον παίδες εοντες (Herod. VII. 205) [1197]. В Афинах институт трехсот отборных воинов (λογάδες) существовал во времена битвы при Платеях в 479 г. до н. э. (Herod. IX. 21). Пережил ли он «радикальную демократию»? Во всяком случае, мы вновь обнаруживаем подразделение из трехсот логадов во время осады Сиракуз [1198]. Идет ли речь в данном случае о том же подразделении, обновлявшемся, как «бессмертные» персов, из поколения в поколение? Я склонен скорее думать, что это был отборный отряд, набранный во время боевых действий. Действительно, эти триста воинов принадлежали другой элите — из легковооруженных воинов (ψιλοί) [1199], что вряд ли было возможно в начале V в. до н. э. [1200]
Читать дальше
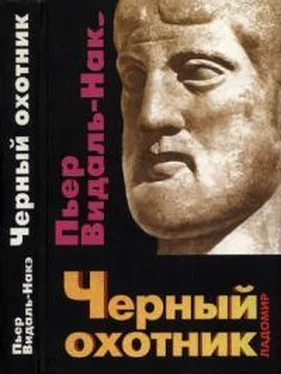

![Джеймс Кервуд - Черный охотник [авторский сборнник]](/books/150113/dzhejms-kervud-chernyj-ohotnik-avtorskij-sbornnik-thumb.webp)



![Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/398480/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o-thumb.webp)




