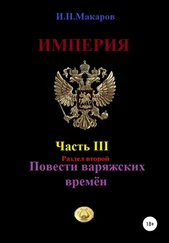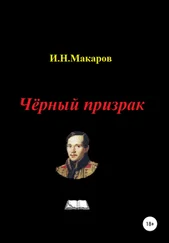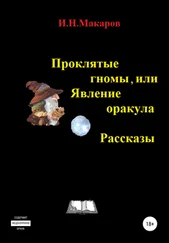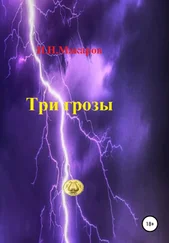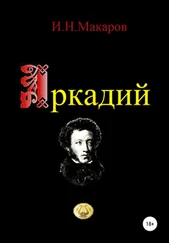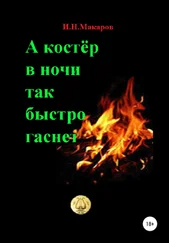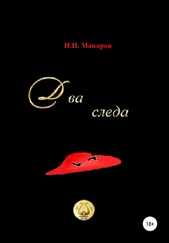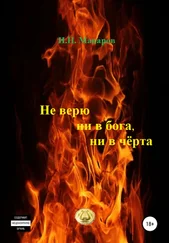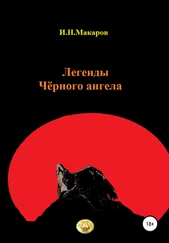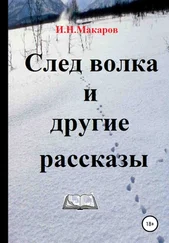Когда военный агент поинтересовался у первого секретаря посольства, как они не боятся держать исключительно немецкую прислугу вообще и такую личность, как Юлиус, в особенности, тот с грустной улыбкой бессильного человека ответил: «Это невозможно. Если мы уволим Юлиуса, то германское министерство иностранных дел нас за это Ведь мы его с поличным еще не поймали…».
У Юлиуса были ключи от помещения канцелярии посольства. Когда происходила уборка, а также ночью все шкафы посольства находились в его распоряжении. В посольстве имелось несколько хороших шкафов с секретными, но не шифрующимися замками. Ключи от этих шкафов находились в заделанной в стене кассетке, которая открывалась простым ключом. Потом ключи переложили в один из секретных шкафов. Однако вскоре у этого шкафа испортился замок. Никто не знал, как быть. Юлиус сразу пригласил слесаря, ему одному известного, который, как привычное дело, открыл шкаф в одну минуту… Осенью 1909 года двое из чинов, подъезжая около 11 часов вечера к посольству, увидели ночного сторожа, стоявшего у приоткрытых ворот. Как только сторож заметил подъезжавших, он быстро шмыгнул в ворота и захлопнул их за собой. Чины посольства стали звонить, ибо своих ключей не имели. Только через порядочный промежуток времени тот же сторож с заспанным лицом открыл им дверь. «Вероятно, в канцелярии посольства шел обыск, и надо было дать время захлопнуть шкафы и скрыться», — добавляет военный агент.
Только после этого случая Юлиус был заменен бывшим русским матросом, которого немцы начали бойкотировать.
«По слухам, — пишет военный агент, — у Юлиуса образовалось уже большое состояние. Он получал жалованье 100 марок в месяц, больше этого — «на чай» за комиссионерство и контрабанду. Полагаю, однако, что главный источник его доходов — разведка… Главное управление Генштаба усмотрит из настоящего донесения еще раз, почему я упорно не хотел сдавать своих шифров и секретных дел на хранение в посольство».
О таких же порядках писали и другие военные агенты. В результате всех этих рапортов Генштаб начал принимать кое-какие меры.
Во-первых, он циркулярно разъяснил всем своим военным агентам, что их квартиры не пользуются правом экстерриториальности, и поэтому шифры и секретные дела военной агентуры предложил им хранить в соответствующих помещениях посольств, миссий и генеральных консульств, а « отнюдь не в своей квартире, хотя бы и в секретных несгораемых хранилищах…».
Во-вторых, Генштаб предложил военным агентам заменить своих вольнонаемных слуг русскими военнослужащими, лучше всего из состава нижних чинов полевой жандармерии, причем Генштаб в данном случае соглашался покрыть расходы по отправке и экипировке такого «нижнего чина», а оплату для него помещения и продовольствия возлагал на личные средства военных агентов.
В-третьих, всем военным агентам был разослан следующий циркуляр:
«Имеются сведения о случаях ненадежности частной прислуги некоторых из наших военных агентов. Замечено:
1. Стремление прислуги точно выяснить, кто посещает военного агента и с какой целью, хотя бы это и не вызывалось требованиями службы.
2. Рытье в бумагах, брошенных черновиках и т. п.
3. Вхождение, более частое, чем нужно, при шифровке бумаг.
4. Пропажа ключей от секретных шкафов и т. д.
Изложенное сообщается для сведения и принятия мер предосторожности — даже от прислуги, вывезенной из России и уже долго состоящей на службе».
Таким образом, оба этих вопроса теоретически как будто были разрешены, но фактически осталось в силе старое положение, ибо посольства, миссии и генеральные консульства крайне неохотно предоставляли военным агентам помещения для хранения секретных документов, а если и предоставляли, то сопротивлялись принятию необходимых мер предосторожности [53].
14 … где и присоединился к персоналу дипмиссии.
В состав миссии входили шесть человек: посланник (до июля 1914 года — Н. Г. Гартвиг, с ноября — князь Г. Н. Трубецкой) первый секретарь В. Н. Штрандман, второй секретарь Леонид Сергеевич Зорин, вице-консул в Белграде и Нише Николай Александрович Емельянов, секретарь посольства Якушев и чиновник по особым поручениям Мамулов. При миссии имелось два консульства в Битоле и Митровице. Историк Й. Качаки отмечает, что с наплывом после революции в Сербию русских беженцев Емельянов «повел себя крайне подло», организовав хищение двух миллионов динаров, предназначенных на их содержание. Накануне разоблачения вместе с деньгами бежал в Румынию (по слухам перешел к большевикам). Некоторые из его сотрудников были интернированы, а русский эмигрантский и сербский полицейский истеблишмент замяли всю эту аферу, чтобы избежать скандала [54].
Читать дальше
![Игорь Макаров Выстрелы в Сараево [Кто начал большую войну?] обложка книги](/books/427841/igor-makarov-vystrely-v-saraevo-kto-nachal-bolshu-cover.webp)