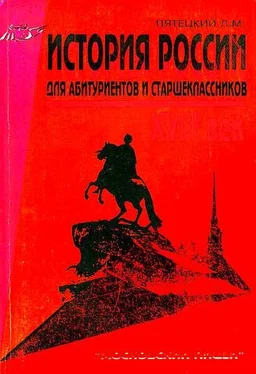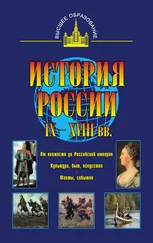Покончив с азбукой, Н. Зотов прошел со своим воспитанником Часослов [3] Часослов — богослужебная книга, содержит псалмы, молитвы, песнопения и проч.
, Псалтырь [4] Псалтырь — библейская книга Ветхого Завета, состоит из 150 псалмов.
и Евангелие [5] Евангелие (греч. «благовествование») — общее название 4 книг новозаветной части Библии.
, в чем и заключалось первоначальное обучение в древней Руси. «Впоследствии Петр свободно держался на клиросе (в православном храме возвышенное место перед алтарем, где при богослужении помещается клир (певчие, чтецы и дьяконы) — Л.П.), читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка; говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и Апостол» (В. О. Ключевский). Никита Зотов умел разнообразить свои уроки. Мальчик оказался живым, бойким и очень любознательным, засыпал учителя вопросами. Удовлетворяя эту любознательность, Зотов стал ему показывать и объяснять «куншты» — картинки с изображением городов, крепостей, кораблей, сражений, оружия и т. д. Такие картинки приготовлялись иконописцами, состоявшими при дворе в ведомстве Оружейной палаты. При этом Зотов касался и русской старины, рассказывал царевичу про дела его отца, Алексея Михайловича, про царя Ивана Грозного, рассказывал и о более древних временах, о Дмитрии Донском, Александре Невском и даже о самом Владимире I Святом.
Историк В. О. Ключевский пишет, что «Зотов был учительный человек, тихий…, но говорят… любил выпить». Впоследствии Петр назначил его князем-папой, президентом шутовской коллегии пьянства. Историки Петра иногда винят Зотова в том, что он не оказал воспитательного, развивающего влияния на своего ученика. «Но ведь Зотова позвали во дворец не воспитывать, а просто учить грамоте, и он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной выучки если не лучше, то и не хуже многих предшествовавших ему придворных учителей, грамотеев» (В. О. Ключевский).
Едва минуло Петру десять лет, как начальное обучение его прекратилось, точнее, прервалось. Царь Федор умер 27 апреля 1682 года.Казалось, что после смерти Федора Алексеевича наступило время царицы Натальи: сын ее Петр провозглашен царем помимо старшего брата Иоанна (Ивана), совершенно неспособного к управлению и больного.
Любимцы царя Федора (Языков, Лихачев и другие) перед кончиною государя сблизились с Нарышкиными, призвали в Москву из ссылки боярина Матвеева и устроили дело так, что тотчас после смерти царя Федора патриарх Иоаким и бояре провозгласили царем младшего царевича Петра, минуя старшего Ивана. Хотя патриарх Иоаким обратился по этому вопросу ко всему народу на площади и получил его согласие и сочувствие, однако, как писал историк С. Ф. Платонов, дело не стало от этого законнее. «Избранием младшего брата права царевича Ивана были явно нарушены, и, сверх того, царское избрание было произведено безо „всей земли“, без земского собора, который в старину, в минуту междуцарствия, один имел право избирать государя на „вдовевший“ московский престол» (С.Ф. Платонов). Родные царевича Ивана, его сестры и бояре Милославские не могли примириться с происшедшим. Из многочисленных сестер, девиц-царевен выделялась своим умом и решительностью царевна Софья Алексеевна.
В 1682 г. в живых оставалось пять дочерей Алексея Михайловича. Но имя только одной из них — Софьи — прочно сохранилось в русской истории. Ей шел двадцать шестой год. По словам историка К. Валишевского, некоторые русские (во главе с Сумароковым) и даже иностранные писатели восхищались ее красотой (Штраленберг, Перри). Правда, другие иностранцы, как, например, французский дипломат Лa Невиль, говорят, что Софья обладала «бесформенной, чудовищной полноты фигурой, широкой, котлообразной головой…».
Историк Н. И. Костомаров пытался объяснить причину этого разногласия: безобразная, по мнению иностранцев, Софья могла казаться привлекательной москвичам своего времени.
Цитаты. Точки зрения
«Иностранцам она казалась вовсе не красивою и отличалась тучностью; но последняя на Руси считалась красотою в женщине».
Н. И. Костомаров
«Полнота до сих пор не считается недостатком на Востоке. Однако упорное молчание наперсника Софьи монаха Медведева и настойчивое восхваление нравственных качеств царевны достаточно красноречивы».
К. Валишевский
Впрочем, в одном сходятся все, не исключая современника Софьи Алексеевны французского дипломата Ла Невиля: «Насколько талия царевны была широка, коротка и толста, настолько ум ее был проницателен, тонок и остр».
Читать дальше