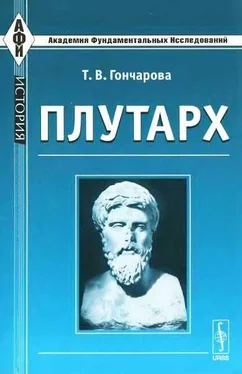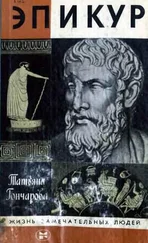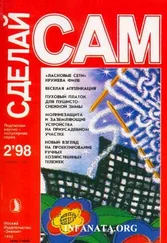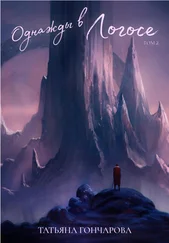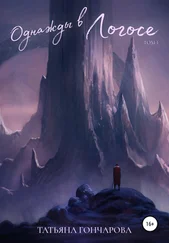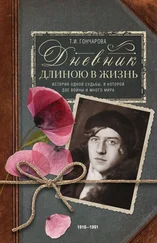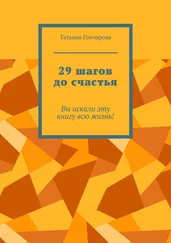Филопемен предстает у него прежде всего как враг тирании, бескорыстный и справедливый человек, который стремится следовать «старинному благозаконию» и в то же время приближает их общую и окончательную несвободу. Хотя в это время Греция была уже почти вся под властью Македонии, в ней не прекращались внутренние распри, теперь в основном на Пелопоннесе, — то заключались недолговечные союзы для борьбы против местных тиранов, то с ожесточением нападали на вчерашних союзников. Спартанцы, ахейцы, аркадяне, этолийцы и элейцы продолжали истреблять друг друга в условиях почти полной всеобщей несвободы, как гладиаторы на аренах еще мало знакомого им Рима.
Филопемена воспитывали как гражданина былых свободных времен, будущего стратега знакомили с учениями о мироздании и бытии, «чтобы изучение философии сделало из него человека, полезного для всей Греции». Он твердо усвоил главную для настоящего эллина истину — жить только на честные доходы, презирать внешний блеск и, будучи уже победителем ненавистных всем тиранов, отвергал любые приношения и подарки от освобожденных. Он любил простую жизнь и труд на земле. «У него было прекрасное поместье в двадцати стадиях от города, — рассказывает Плутарх. — Туда он ходил каждый день после обеда или после ужина… вставши рано утром, он работал вместе с виноградарями или пахарями и опять возвращался в город, где с друзьями и должностными лицами занимался общественными делами». Но больше всего Филопемен любил военное дело, с юных лет учился вести бой в тяжелых доспехах и ездить верхом, став стратегом, постоянно занимался воинской подготовкой своих солдат.
Когда Филопемену было тридцать лет, он отличился в войне против спартанского царя Клеомена, неожиданно ночью напавшего на Мегалополь. Потом поехал воевать на Крит и «вернулся к ахейцам в таком блеске славы, что тотчас же был назначен начальником конницы» — вторая после стратега должность в Ахейском союзе. Потом была война со спартанским тираном Маханидом, когда Филопемен в полной мере проявил свое бесстрашие и доблесть. Из-за разногласий с гражданами Мегалополя он опять уехал на Крит, откуда возвратился увенчанный еще большей славой. В это время ахейцы при поддержке римлян воевали против нового спартанского тирана Набида. Неожиданно и коварно Набид был убит этолийцами, и Филопемен, воспользовавшись волнениями в Спарте, присоединил спартанцев к Ахейскому союзу. На семидесятом году жизни Филопемен был в восьмой раз избран ахейским стратегом и надеялся остаток своих дней прожить в покое. Однако ему пришлось воевать с отложившимися от союза мессенцами, он попал в плен и был посажен в подземелье. Узнав о его пленении, ахейцы отправили в Мессену посольство с требованием выдачи пленного, а сами стали готовиться к походу. К Филопемену же в подземелье явился раб с чашей яда, и доблестный стратег вскоре угас от яда и от слабости. Ахейцы отбили тело Филопемена, он был похоронен с подобающей честью в Мегалополе и около его памятника были побиты камнями мессенские пленники. Взаимное самоистребление не прекращалось. Ненависть к тирании, любовь к свободе, героизм и одновременно благородство «последнего из эллинов» ни в ком из греков не проявились с такой силой, как у Филопемена, он был, пожалуй, последним подлинным сыном угасающей Эллады.
Печальной была и кончина Арата, другого знаменитого стратега Ахейского союза. Он был последним из тех, кто «выше всех благ на свете ценил согласие народов, общение городов между собой, единодушие в советах и собраниях», но и он уже ничего не мог изменить ни в общей судьбе Эллады, ни даже в судьбе своих ахейцев, долее других сохранявших независимость. Арат завершил жизненный путь, подобно многим другим защитникам отечества, еще раз подтвердив правоту слов, сказанных когда-то отцом Фемистокла, о старых триерах, выброшенных догнивать на берегу: «После тридцати трех лет, проведенных на государственном поприще во главе Ахейского союза, после того как и славою, и силой этот человек превосходил всех в Греции, он остался один, сокрушенный и беспомощный, и теперь, когда его родина потерпела крушение, носился по волнам в разгар губительной бури», и никто не пришел ему на помощь.
Плутарх пишет об этом спокойно, поскольку для последователя Платона все тяготы и разочарования эфемерного людского бытия значили так же мало, как и изобилие материальных благ. И несмотря на то, что в конце концов предводитель ахейцев «остался хозяином и владыкою лишь собственного голоса, да и голосу-то звучать свободно было уже небезопасно», это не умаляет в глазах его биографа самого главного в Арате — стремления к свободе Греции. Проживший вместе со своими героями столько разных жизней, Плутарх хорошо усвоил самое главное — многое в этом мире не зависит от нас, велика роль судьбы и случая. Как часто оказывается человек бессилен перед грозным течением вечной реки бытия, но если ему удалось не изменить основному — жить не для себя, а для других, то уже он достоин восхищения и подражания. И поэтому Плутарх пишет, обращаясь к некоему Поликрату, отдаленному потомку Арата: «Я хочу, чтобы на семейных примерах воспитывались твои сыновья, Поликрат и Пифокл, сперва слушая, а потом и читая о том, чему им надлежит подражать».
Читать дальше