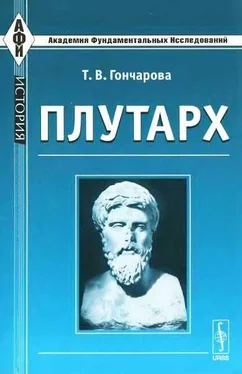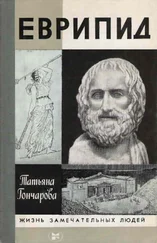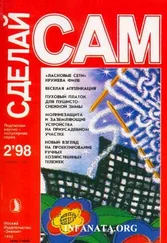«Есть перерыв, гибели нет. И смерть, которую мы со страхом отвергаем, прерывает, а не прекращает жизнь», — писал Луций Анней Сенека, и Плутарх мог согласиться с каждым его словом, спокойно готовясь переступить черту между миром видимым и невидимым, не сомневаясь в том, что за этой чертой ему откроется многое из сокровенного.
Объехавший многие земли и города, в свои последние годы Плутарх почти не покидал Дельфы, которые считались когда-то сердцем Эллады и продолжали для него оставаться такими и теперь. И все же есть основания предполагать, что он посетил еще раз «прекрасные, всеми воспетые Афины», чтобы постоять напоследок в тени рощи Академа, полюбоваться непревзойденными творениями Иктина и Калликрата и навсегда унести с собой в вечный мир сияющий образ неповторимого города.
Обласканные Адрианом, Афины словно бы воспрянули от бед и страданий последних четырех столетий, впервые, пожалуй, со времени Перикла наполнившись шумом строительных работ. По приказу императора (до того стремившегося походить на эллина, что он даже первым из римских властителей отпустил бородку по греческому обычаю) возводили большой жилой квартал, новый Одеон у подножия Акрополя, неподалеку от старинного театра Диониса, а также приступили к завершению Олимпиона — гимнасия, основание которого было заложено еще шестьсот лет назад тираном Писистратом.
Адриан хотел видеть в себе нового Тезея, возрождающего к жизни древнейший из греческих городов, восходящий, быть может, своими истоками еще к домикенским временам, к мифической эпохе храмов Афины и Посейдона на берегах озера Тритона на северо-западе Африки. На арке, отделявшей старый город от строящегося нового квартала, было высечено: «Афины то Тезея прежний город здесь», а с другой «То Адриана город, не Тезея здесь». Помогая и деньгами, и продовольствием (так, однажды он подарил голодающему демосу годичный запас хлеба), император считал нужным вникать во все нужды великого города, ставшего словно бы его любимым детищем. «Знайте, — писал он в одном из посланий афинянам, — что я пользуюсь всеми предлогами, чтобы благодетельствовать и всенародно полису, и частным образом отдельным из афинян; вашим детям и юношам даю гимнасий, чтобы он был украшением городу и… вдобавок (цифра не сохранилась. — Т. Г.) талантов… будьте счастливы».
И они всей душой надеялись быть счастливыми, эти жители адриановых Афин, среди которых уже трудно было бы отыскать потомков не только что марафонских бойцов, но даже тех, которые ходили в восточный поход с Александром. Казалось просто невероятным, что Судьба обратила на них благосклонный взор и что теперь им покровительствует могущественный человек из того самого Рима, который в течение нескольких столетий их грабил и унижал. Конечно, новые Одеон и Гимнасий имели мало общего со строениями древних мастеров и, в сущности, квартал Адриана — это были не новые Афины, а перенесенный на аттическую землю кусочек Рима, и все равно это сулило какую-то новую, может быть, даже долгую жизнь.
Оживились философские споры, со всех сторон понаехали речистые софисты (тем более что милостивый император учредил на государственный счет кафедру риторики), составляя для присмиревшей от сытости толпы многоцветные словесные мозаики, в которых тщетно было бы искать хотя бы одну заслуживающую внимания идею. И как в молодости, когда он слушал модных софистов в азийских городах, у Плутарха не вызывали ничего, кроме раздраженного недоумения, все эти речи, которые, по мнению менее взыскательных слушателей, «гремели, сверкали и приводили в смятение», лились «широким великолепным потоком» — неизвестно куда и непонятно зачем.
И опять, уже не в первый раз Плутарх стремится отстоять воспринятое от Платона и отвечающее его собственному мировидению понимание риторического искусства: «Красноречие, говоря словами Платона, есть искусство управлять душами и… главная задача его заключается в умении правильно подходить к различным характерам и страстям, будто к каким-то тонам и звукам души, для извлечения которых требуется прикосновение очень умелой руки». В «Жизнеописании софистов» Плутарх называет тех семерых, которые стали так называться первыми и от которых, как он считал, все же была какая-то польза. Относительно же теперешних «учителей празднословия» он мог бы согласиться полностью с мнением Сенеки о том, что «кто им предался, только хитро запутывает мелкие вопросы, ничего полезного для жизни ни приобретая, не став ни мужественней, ни воздержан ней, ни выше духом».
Читать дальше