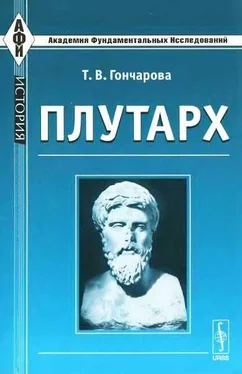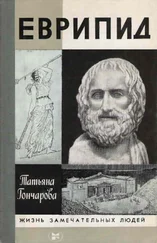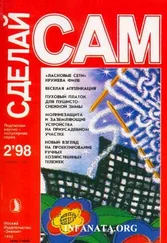Самомнение Деметрия, по натуре, впрочем, не злобного, не знало пределов, он и вправду казался себе равным богам. Сделавшись на какое-то время царем Македонии, он приказал изготовить себе «плащ — редкостное произведение ткаческого искусства, с картиной вселенной и подобием небесных явлений и тел». Никто из последующих правителей не дерзнул накинуть на плечи плащ с изображением вечного и бесконечного Космоса. И в то же время единственным настоящим удовольствием Морского царя (как стали называть Полиоркета после того как он утратил все владения на суше и у него остался только флот) было мчаться, стоя на самом носу корабля, по разбушевавшимся волнам, подставив соленому ветру озаренное беспечной улыбкой лицо. Громкая слава Освободителя Греции была недолговечной, и оказавшись, в конце концов, в почетном плену у своего зятя Селевка в Сирии, играя в кости и пьянствуя, Деметрий умер на пятьдесят четвертом году.
Какая же «цель у войн, которые ведут, не останавливаясь перед опасностями, негодные цари, безнравственные и безрассудные?» — вопрошает Плутарх, стремясь понять, что движет такого рода людьми, и даже как будто жалея их: «Ведь дело не только в том, что вместо красоты и добра они гонятся за одной лишь роскошью и наслаждениями, но и в том, что даже наслаждаться и роскошествовать по-настоящему они не умеют». Но если у Деметрия, который, «пока обстоятельства ему благоприятствовали, неизменно стремился к освобождению Греции» (что было для Плутарха самым главным), он все же находит какие-то проблески благородства, то в отношении Марка Антония, сражавшегося с будущим императором Августом за власть над Римом, он непримирим. Признавая присущее Антонию величие, он в то же время сожалеет о том, что это величие меркнет в сравнении с тем нагромождением ошибок, безумств и предательств, какое представляла собой, по его мнению, жизнь этого человека, не сумевшего стать господином собственных страстей.
Плутарх не мог простить Антонию того, что тот, будучи со своим войском в Беотии, заставлял херонейцев таскать на спине хлеб для своих легионеров, и поэтому все в этом римлянине представляется ему отмеченным пороком и злом: и эта «напасть — его любовь к Клеопатре», и «тиранические намерения» в отношении римского народа, и пышные празднества в восточных городах, население которых приветствовало полководца с лицемерным ликованием, за которым таился страх. «Когда Антоний въезжал в Эфес, — рассказывает Плутарх в его жизнеописании, — впереди выступали женщины, одетые вакханками, мужчины и мальчики в обличим панов и сатиров, весь город был в плюще, повсюду звучали псалтерии, свирели, флейты, и граждане величали Антония Дионисом — Подателем радости, источником милосердия. Нет спору, он приносил и радость, и милосердие, но лишь немногим, для большинства же он был Дионисом кровожадным и неистовым. Он отбирал имущество у людей высокого происхождения и отдавал негодяям и льстецам. Нередко у него просили добро живых, словно бы выморочное, — и получали просимое». Самоубийство Антония представляется Плутарху, по существу, единственным разумным шагом после стольких поступков, осуществленных точно в горячечном безумии, и трагическая эта кончина вернула злосчастному римлянину заложенное в нем от природы величие.
Проживая со своими героями век за веком всю историю греков и римлян, Плутарх видел, как по мере иссякания «старинного благозакония» народ отходил от труда, особенно земледельческого, от верований предков и гражданского равенства и все реже порождал людей действительно доблестных и добродетельных. И все равно он продолжал надеяться (ведь другого ничего не оставалось), что если каждый будет стремиться к добродетели, то и жизнь общества в целом станет более нравственной и здоровой. Плутарх прекрасно понимал, что возвращение к старинному порядку вещей вообще невозможно, это было ясно из написанных им биографий спартанцев Агиса и Клеомена, а также римлян братьев Гракхов, всей силы мужества и жертвенности которых оказалось недостаточно для того, чтобы вернуть навсегда ушедший уклад.
Двадцатилетнему царю Агису, человеку «чрезмерной совестливости, мягкости и человеколюбия», досталась Спарта, имеющая мало общего с тем первенствующим среди греков Лакедемоном, в котором «грозный закон был поставлен стражем» равенства и благочестия. Уже более (рта лет спартанцы, как и остальные греки, находились под властью македонских царей, и превратились в легенду те времена, когда «мужья не решались прямо взглянуть на жен», пока не смоют кровью позора поражения. После победы над афинянами в Пелопоннесской войне в Спарте впервые после принятия Ликурговых законов было поколеблено «стойкое равнодушие к деньгам», вслед за этим, как водится, пришли «роскошь, изнеженность и расточительство». Вскоре дело дошло до земли: был отвергнут старинный закон об общественной собственности на землю, и теперь «каждый мог подарить при жизни или оставить по завещанию свой дом и надел кому угодно». «Сильные стали наживаться без всякого удержу… и скоро богатство собралось в руках немногих, а государством завладела бедность, которая, вместе с завистью и враждой к имущим, приводит за собой разного рода низменные занятия, не оставляя досуга ни для чего достойного и прекрасного».
Читать дальше