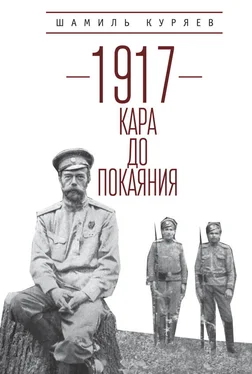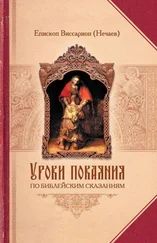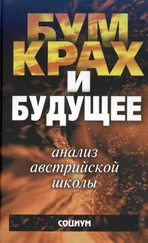Вот что вспоминал Старостин на закате дней о своём учителе: «Читал у нас лекции по истории государственных учреждений хорошо поставленным голосом Николай Петрович Ерошкин. Однажды, рассказывая о военном ведомстве, он остановился и говорит: «Ну, кто из вас знает слово «infanterie»? Абсолютная, зависшая в воздухе тишина, хотя у нас на курсе было пять-шесть «французов». «Кто даст правильный перевод этого слова, тому поставлю на экзаменах отлично». Я привстал и говорю: «Пехота, Николай Петрович». В офицерском училище мы изучали французскую военную лексику. «Хорошо, напомните мне этот случай на экзамене».
Фантастика! Профессор историко-архивного института спрашивает у аудитории, что такое инфантерия. Казалось бы, такой вопрос можно было задать студентам-историкам только в шутку. Ежу понятно, что так в старину называлась пехота! Отсюда «генерал от инфантерии» и т. д. Можно было бы ещё понять риторический оборот: «Все знают слово «infanterie»?» Однако вопрос был задан серьёзно. Профессор ждал, чтобы кто-нибудь ответил на него.
Так ведь мало того! – профессор задаёт слушателям эту «загадку», рассказывая им не о Государственном контроле, и не о департаментах Сената, а «о военном ведомстве»! Понятно, что вся аудитория должна была хором ответить: «Пехота, Николай Петрович; и не задавайте глупых вопросов». Но нет! – ответом профессору стала «абсолютная, зависшая в воздухе тишина». Несмотря на обещание профессора за такую сверхъестественную эрудицию «поставить на экзаменах отлично»!
Но, по счастью, не везде был такой уровень преподавания, как в МГИАИ, и такие профессора, как Ерошкин. Поэтому нашёлся один умный человек, который знал, что инфантерия – это пехота (возможно даже, он знал, что шифоньер – это шкаф такой). Правильный ответ настолько восхитил профессора, что он тут же ещё раз подтвердил своё обещание поставить «пять» на экзамене. Ну, ещё бы – такому умнику! И только после прочтения «Самодержавия накануне краха» начинаешь понимать, что доктор исторических наук Ерошкин во время описанной сценки не юродствовал – он действительно не ожидал (или считал маловероятным), что ему ответят правильно. И Старостин продемонстрировал своим ответом такой уровень эрудиции, какой Ерошкин искренне считал весьма высоким для профессионального историка.
И это не было каким-то «уродливым исключением» – напротив, это типично для вельможного представителя советской исторической школы!
Достаточно вспомнить «красного профессора» Щёголева, «специалиста по эпохе Николая Второго» (который не знал, как звали сестру императрицы), или официального советского «гуру» по вопросам Октябрьской революции академика Минца (который путал Талейрана с Тамерланом, Маколея с Макиавелли и считал, что шесть плюс пять равно двенадцати). Это были типичные «пикули от истории» (тот ведь тоже считал себя моряком, но совершенно не знал морской терминологии и путал гаолян с гальюном!) – только украшенные, в отличие от Пикуля, помпезными виньетками учёных званий и степеней.
После их печатных саморазоблачений всей советской исторической науке – по крайней мере, «политически значимой» её части (всё, что не про древних), с любыми её «оценками» и «суждениями», – остаётся сказать аминь.
К живым следует относиться доброжелательно, о мёртвых же нужно говорить только правду.
Вольтер
§ 1.1.Принципиально не вторгаясь в такой сугубо богословский вопрос как обоснованность канонизации царской семьи, нельзя не обратить внимания на то, что Романовым и в этом случае «не повезло».
Дело в том, что Русская Православная Церковь за границей (РПЦЗ) прославила их ещё в 1981 году – однако сделала это крайне неудачно, против всех канонических правил. Во-первых, РПЦЗ прославила казнённых Романовых в лике мучеников, в то время как Николай Второй и его близкие были убиты отнюдь не за смелое исповедание христианской веры (в чём состоит подвиг мученичества), – они были устранены как политические враги. Во-вторых, члены царской семьи были прославлены РПЦЗ вместе с их казнёнными приближёнными-иноверцами – католиком Труппом и лютеранкой Шнейдер (что вообще не имело аналогов в Православии!).
Разумеется, эти досадные несуразности тогда же вызвали волну критики и насмешек, дискредитировав идею канонизации в глазах многих представителей русского зарубежья.
Сразу после крушения Советской власти, в 1992 году, был дан ход процессу канонизации царской семьи Русской Православной Церковью (Московского Патриархата). РПЦ (МП) избежала явных канонических нарушений, допущенных в своё время РПЦЗ, и на архиерейском соборе 2000 года прославила всех членов царской семьи – Николая, Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию – в лике страстотерпцев. Из присутствовавших на соборе иерархов РПЦ только митрополит Нижегородский Николай (Кутепов) выступил против канонизации императора, назвав его «государственным изменником».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу