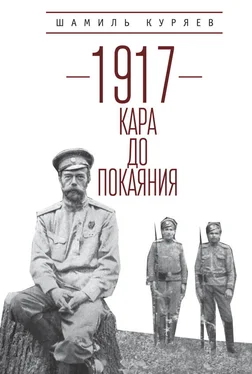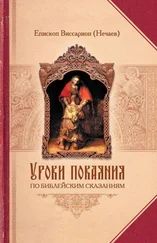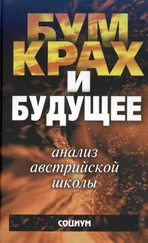Из исследователей, пристально изучавших личность Николая Второго, членов его семьи и представителей «ближнего круга», стоит отметить следователя Соколова – который в своём труде вышел далеко за рамки расследования обстоятельств цареубийства. В то же время, характерной особенностью его позиции (наверняка – искренней!) является демонизация Распутина; представление о нём как о «несознательном шпионе» и проводнике немецкого влияния при дворе.
Безусловно, крупным историком (всю свою эмигрантскую жизнь посвятившим исследованию эпохи Николая Второго!) был Ольденбург. Его апологетическое «Царствование императора Николая II» к настоящему времени переведено на многие языки, выдержало массу переизданий и считается «классикой жанра». Однако надо помнить, что первое издание этой книги состоялось уже после смерти автора (да и то – почти весь тираж пропал из-за начавшегося вторжения нацистской Германии в Югославию). Труд Ольденбурга получит широкую известность и признание только во второй половине 20-го века.
Поэтому ни о каком особенном «монархизме» русской эмиграции говорить не приходится! Она представляла собой клокочущий котёл – распалённых амбиций, уязвлённых самолюбий, взаимных обвинений и межпартийных склок…
Конечно, и среди эмигрантов первой волны встречались люди безыдейные и «внепартийные». Да только от этого не легче! Ведь в 20-м веке на Западе уже процветала безудержная свобода слова, что – в сочетании со страстью западной публики ко всему «жареному» – создавало идеальные условия для творчества этих безыдейных авантюристов. Яркий пример: бывший член «распутинского кружка» Симанович. Его книга «Распутин и евреи. Воспоминания личного секретаря Григория Распутина» (впервые издана в 1921 году в Риге) имела грандиозный успех в странах свободного мира. На протяжении 20-х – 30-х годов она выдержала несколько переизданий, была переведена на европейские языки. При этом – по процентному содержанию лжи «мемуары» Симановича могли бы поспорить с любым порождением советского Агитпропа.
Вся эта литературная халтура подкреплялась многочисленными западными фильмами, смакующими тему Распутина и «распутинщины»: «Распутин – святой грешник», «Распутин – демон с женщиной» и т. п. Интересно, что роль развратного Гришки порой доверяли русским актёрам.
Так что никакого согласного «эмигрантского хора», никакой «дружной отповеди» из-за рубежа (и вообще – никакого достойного «противовеса») большевистской клевете на Николая Второго и его окружение – не было и быть не могло!
Что же касается сусальных сказок, вышедших из-под пера бывших наперсниц императрицы – Вырубовой, Ден и Буксгевден, – то они оставляют после прочтения только чувство неловкости и стыда за авторов и не могут претендовать на какую-либо достоверность. С точки зрения исторической ценности они примерно соответствуют илиодоровскому «Святому чёрту». Это неуклюжее запоздалое «заступничество» со стороны не блиставших умом фрейлин императрицы способно было разве что подлить масла в огонь антиромановской пропаганды.
§ 2.1.В Советской же России в это время творилась подлинная вакханалия. Тут и откровенный садизм, с которым смаковался сам факт убийства царской семьи (конечно, после того как Советы сей факт официально признали), и невероятная подлость, с которой клеветали на убитых.
В 20-е – 30-е годы в СССР не было принято стесняться в выражениях, когда речь шла о Николае Втором. Пролетарское искусство буквально исходило желчью по адресу последнего русского царя и его семьи! В качестве наиболее показательных примеров стоит упомянуть повесть «Золотой поезд» Матвеева, «Расстрел Романовых» Тюляпина, «Сказание о Ленине» Крюковой.
Из «звёзд первой величины» в деле глумления над убитыми поспешил отметиться Маяковский. Лично побывав в подвале Ипатьевского дома и подробно расспросив местных коммунистов об участи царской семьи, пролетарский поэт разразился стихотворением «Император». Начало стихотворения – воспоминания автора о каком-то дореволюционном царском выезде: «И вижу – катится ландо, и в этой вот ланде сидит военный молодой в холёной бороде. Перед ним, как чурки, четыре дочурки» (и т. д., если кто не брезгливый…). Потом описывается, как уральский большевик показывает гостю московскому шахту, куда якобы была сброшена царская семья. В конце стихотворения – мораль: «Прельщают многих короны лучи. Пожалте, дворяне и шляхта, корону можно у нас получить, но только вместе с шахтой».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу