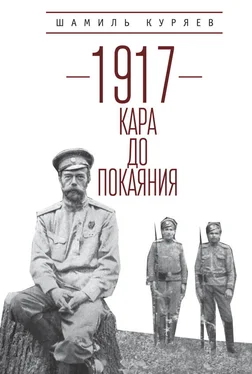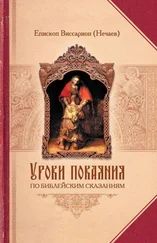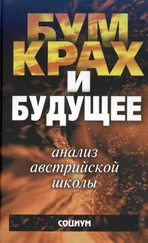Удивляться ли после этого тому, что солдатня и матросня окончательно распустилась, а положение офицеров в собственных частях стало невыносимым?
В первые же дни «великой и бескровной» произошли массовые убийства офицеров – когда в Гельсингфорсе и Кронштадте (главных базах Балтийского флота) матросами были убиты десятки офицеров, включая командующего флотом адмирала Непенина. Но и в последующие месяцы убийства офицеров подчинёнными были обычным явлением. При этом почувствовавшая свою безнаказанность солдатня – в отличие от немецкой шрапнели, валившей всех без разбора, – убивала, прежде всего, самых лучших офицеров (в ответ на их попытки повести подчинённых в атаку и т. д.). Некоторым из обречённых на смерть удавалось бежать. В любом случае – армия теряла лучших представителей своего командного состава.
А офицерам, оставшимся в строю, преподавался наглядный урок: что надо делать, чтобы остаться в живых? – пресмыкаться перед солдатами, беречь их от передовой, беспрекословно выполнять все их пожелания, раболепствовать перед комитетом солдатских депутатов! По мере дальнейшей большевизации солдатских масс и солдатских комитетов (нараставшей на протяжении 1917 года) убийства офицеров происходили всё чаще. Русская армия – некогда славная своей дисциплиной – превращалась в вооружённую толпу.
Точной статистики по убитым офицерам нет (в частности, данные по жертвам кронштадтской бойни в разных источниках различаются в разы). Но в любом случае общее число офицеров, ставших жертвами солдатских и матросских самосудов на протяжении февраля-октября 1917 года, исчисляется сотнями.
Помимо угрозы немедленной физической расправы, офицерам постоянно грозила опасность незаконного ареста собственными подчинёнными. В каком-то смысле это был ещё более вопиющий произвол, чем убийства. Ибо убийство, как правило, совершается быстро, а содержание под стражей подразумевает «длящееся» беззаконие (и – преступное бездействие официальных властей).
Так, многие офицеры Балтийского флота не были убиты в первые революционные дни, но долгое время содержались под стражей по воле Кронштадтского совета. Вялые попытки Временного правительства их освободить советом игнорировались. Впрочем, убийства и незаконные аресты не стоит «противопоставлять» друг другу: очень часто аресты офицеров заканчивались их убийством.
Что уж говорить о таких «пустяках» как полное разрушение военных традиций? Хоть это и не пустяки: военная машина испокон веков держалась на традициях! После Февральской революции началась коренная ломка всех устоявшихся форм. Во-первых, была уничтожена вся привычная монархическая атрибутика – было запрещено ношение императорских вензелей и короны, ликвидированы шефские названия частей, отменены военно-придворные звания.
Во-вторых (что важнее), офицеры перестали быть «благородиями» – привычное титулование офицеров было также отменено. В-третьих (что ещё хуже), с офицеров начали снимать погоны. Мало кто знает, что погоны у офицеров российского военно-морского флота были отняты ещё в апреле 1917 года приказом военного министра Гучкова! Армия старательно «разофицеривалась». Многие честные офицеры (особенно – кадровые) не могли вынести творившегося в армии кошмара и сами сводили счёты с жизнью. За восемь месяцев «демократического правления» более восьмисот офицеров покончили с собой. Их смерть – на совести Временного правительства.
И после всего этого у либеральных щелкопёров (в том числе – эмигрантских) хватает нахальства разбирать вины царского правительства перед армией! Воистину, человеческое бесстыдство не имеет пределов.
§ 3.2.Однако, как бы ни были велики проблемы, вызванные низким профессиональным уровнем новоиспечённых полководцев (назначенных Гучковым и Керенским взамен изгнанных) и молодых офицеров военного производства (поступающих в войска на место убитых), стократ страшнее была проблема качества и количества «нижних чинов»! Это был тот самый анекдотический случай: «во-первых – гадость, а во-вторых – мало».
Конечно, большая доля ответственности лежит на царском командовании, которое не берегло живую силу и не сумело сохранить необходимый резерв профессиональных офицерских и унтер-офицерских кадров. Впрочем, кадровый голод был неизбежным следствием затяжной войны, в которой задействованы массовые армии… В случае же с Россией проблема усугублялась сравнительно низкой долей образованного населения. Объективной причиной было и то, что солдатская масса на фронте устала от войны; и то, что каждый новый призыв оказывался слабее предыдущего и был всё менее «мотивирован» на победу. Всё это отнюдь не способствовало сохранению высокого боевого духа в войсках.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу