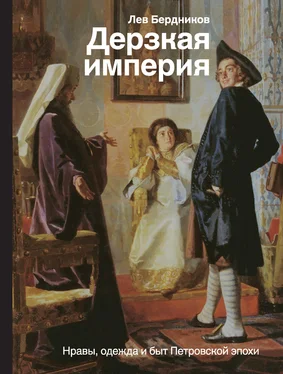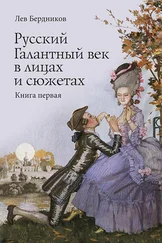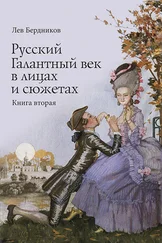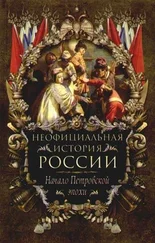Эта страшная метаморфоза записного франта в неопрятного простолюдина произвела на Шаховского гнетущее впечатление. С тяжелым сердцем исполнил Шаховской свою обязанность и отправил Левенвольде на Урал, в Соликамск, где бывший обер-гофмаршал прожил 16 лет в тяжком изгнании. Как и все низкие души, он не умел с достоинством переносить несчастья и, по свидетельству современников, впал в рабскую покорность. Князь Петр Долгоруков в своих «Записках» отметил: «Никто более его не унижался перед местными властями этого удаленного и дикого места… Он часами просиживал на деревянной скамье перед домом и не замечал ничего происходящего вокруг». Граф Рейнгольд Густав Левенвольде скончался в 1758 году.
Двадцать лет провела в ссылке и его подруга Наталья Лопухина. Но, по счастью, сыновья Лопухиной (от Левенвольде) уже при Екатерине II сделали блестящую карьеру: один стал генерал-поручиком, другой – действительным камергером.
Герцог де Лириа-и-Херика говорил, что в Левенвольде «были ум и красивая наружность», и прибавлял: «Счастием своим он был обязан женщинам». Но и своим падением он также обязан женщине – императрице Елизавете Петровне. Однако логика культурного развития привела к тому, что в сфере моды Елизавета осуществляла ту же ориентацию на французское щегольство, которой придерживался и опальный граф. И в то время как ссыльный Левенвольде отпустил бороду и носил валенки и зырянский малахай, елизаветинский двор утопал в роскоши, вольно или невольно следуя заветам прежнего всесильного гофмаршала. Ведь именно при этой императрице сложился особый тип дворянина, который Василий Ключевский назовет «елизаветинский петиметр». И хотя историк Сергей Соловьев назвал Левенвольде одним из «паразитов, которые производили болезненное состояние России», его роль как законодателя мод неоспорима. Добавим к сему, что Левенвольде являл собой исторический тип беспринципного альфонса-карьериста; он встречается во все времена, во всех странах и – увы! – неистребим.
Наказанная добродетель. Анна Леопольдовна
Существует предание, что жена царя Иоанна Алексеевича, родного брата Петра I, Прасковья Федоровна, прокляла всех трех своих дочерей. На смертном одре царицы ее деверь просил снять проклятие, но она смягчилась только в отношении средней дочери, будущей императрицы Анны Иоанновны; двух других чад она вновь прокляла с их потомством на веки вечные. И что же? Младшая дочь, Прасковья Иоанновна, вообще не имела детей, а старшая, Екатерина Иоанновна, стала матерью печально известной Анны Брауншвейгской.
Об Анне нельзя сказать – дитя любви. Супружеская жизнь ее матери и отца, герцога Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского, была очень несчастлива. Грубость, сварливость и деспотизм герцога были совершенно невыносимы, и жена с трехлетней дочерью поспешно бежала из Ростока (где родилась девочка) в Россию (1722 год). Первоначально они поселились в патриархальном Измайлове, при дворе Прасковьи Федоровны, который Петр I назвал в сердцах «гошпиталем уродов, ханжей и пустословов». Раздражение великого реформатора объяснимо: несмотря на ветры петровских перемен, здесь господствовала обстановка русского XVII века, почитались старомосковские традиции. Посетивший измайловские покои Екатерины Ивановны и ее дочурки голштинский камер-юнкер Фридрих Вильгельм Берхгольц в своем дневнике от 26 октября 1722 года пишет с нескрываемым презрением (понятное дело, немчура) о прескверной игре «полуслепого, грязного бандуриста» и отчаянных плясках перед гостями «какой-то босой, безобразной и глупой женщины». Но малолетняя принцесса воспринимала все это совершенно иначе – она оказалась в народной среде, в мире привычных для бабки и матери ценностей, и с этой средой сроднилась.
После вступления на российский трон Анны Иоанновны жизнь девочки изменилась самым решительным образом. Желая сохранить престол за своим родом – Романовыми-Милославскими, бездетная императрица приблизила к себе тринадцатилетнюю племянницу и окружила ее штатом придворных служителей. В вопросах веры Анну наставлял человек такого высокого уровня как архиепископ Новгородский Феофан Прокопович, круг интересов которого был весьма обширным. Имея глубокие познания в истории, теологии, философии, он занимался математикой, физикой, астрономией, интересовался живописью, любил слушать инструментальную музыку, был пылким оратором. Он обладал крупной по тем временам библиотекой, в которой насчитывалось более трех тысяч книг, изданных в Европе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу