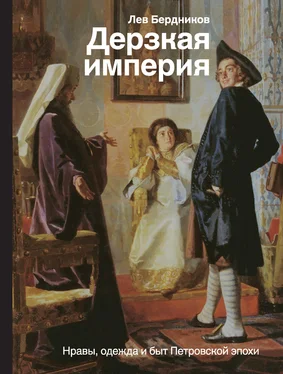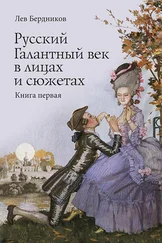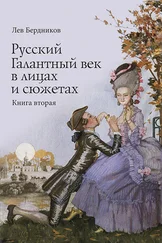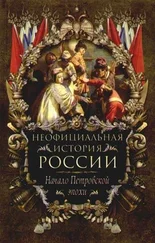А уже на следующий день был обнародован манифест о назначении Анны Брауншвейгской правительницей империи с титулами великой княгини и императорского высочества. Она становилась регентшей до совершеннолетия младенца-императора. Это известие было встречено всеобщим ликованием. «Еще не было примера, – писал французский посланник, – чтобы весь этот народ обнаруживал такую неподдельную радость, как сегодня».
Первым делом правительница уволила всех придворных шутов и шутих, наградив их дорогими подарками. Виновником «нечеловеческих поруганий» и «учиненных мучительств» над шутами она объявила Бирона. Однако всем было известно, что не Курляндский герцог, а сама бывшая императрица выискивала их по всем городам и весям России, именно она забавлялась дикими выходками, драками до кровищи, сидением на лукошках с яйцами этой забубенной «кувыр-коллегии». Таким образом, обвиняя Бирона, правительница метила в весь институт шутовства своей венценосной тетушки. И необходимо воздать должное Анне Брауншвейгской, навсегда уничтожившей в России само это презренное звание (в шутовской одежде шуты при дворе больше уже не появлялись).
Анна Леопольдовна явила себя прежде всего как правительница православная. Она отменила ограничения для желающих постричься в монахи; аннулировала фактически проведенную в 1740 году секуляризацию; минуя официальные инстанции, она жаловала деньги архиерейским домам и монастырям и возвратила им церковные вотчины, управлявшиеся ранее Коллегией экономии. При условии крещения она даровала прощение даже закоренелым преступникам-инородцам, приговоренным к смертной казни. Был также издан указ об умножении духовных училищ и школ. Были возвращены из ссылки многие церковнослужители, в числе которых бывший префект Славяно-греко-латинской академии Феофилакт Лопатинский, епископ Воронежский Лев, епископ Воронежский Игнатий, а также православный ортодокс, бывший директор Петербургской типографии Михаил Аврамов. Известно также, что апартаменты ее и сына-императора были уставлены иконами, среди коих выделялся образ святых мучеников Аникиты и Фотия, празднуемых в день рождения Иоанна Антоновича, причем правительница приказывала украшать иконы драгоценными окладами. Возле этих икон постоянно теплились лампады. Она имела своего духовника, священника Иосифа Кирилова, который часто проводил богослужения в их покоях. Достоверно известно, что правительница постилась и строго соблюдала православную обрядность.
Еще в бытность своей августейшей тетушки Анна Леопольдовна тесно общалась с кабинет-министром Артемием Волынским, олицетворявшим собой «русскую» партию при дворе; во время же ее регентства половину членов кабинета составляли русские, а из восьми камергеров немцев было только два. Патриотизм Анны проявился вполне, когда по ее повелению потомкам легендарного Ивана Сусанина выдали грамоту, подтверждавшую их освобождение от рекрутской повинности. Примечательно и то, что, придя к власти, она незамедлительно вызволила из северной глухомани представителей старомосковской знати – репрессированных родственников князей Голицыных и Долгоруковых, причем жене казненного князя Ивана Долгорукова, Наталье Долгоруковой-Шереметевой, автору знаменитых «Своеручных записок», она пожаловала село. Фактически было приостановлено уголовное дело видного русского историка Василия Татищева, а сам он был командирован управлять Астраханской губернией.
Между тем в историографии едва ли не господствует мнение о немецкой ориентации правительницы Анны, в отличие от «русской» цесаревны Елизаветы (хотя доля русской крови у них была одинакова). «Принцесса и по месту рождения, и по браку с иноземным принцем продолжала оставаться для русских иностранкою, – заключает историк Модест Корф. – При миропомазании она была наречена Анною, но отчество ее звучало настоящим немецким складом, а все немецкое уже давно… сделалось предметом общей в России неприязни. Ни принятие православного титула великой княгини, ни переход ее в православную веру не изменили тут ничего: для массы народа она была по-прежнему чужою, приезжею из-за моря принцессою, и никогда в его уме не связывалось с этим отечеством и с чужеземными именами ее мужа ничего родного, своего, тогда как имя русской великой княжны Елисаветы Петровны воскрешало в умах ряд воспоминаний о славных делах ее родителя, возведших Россию на неслыханную прежде степень могущества и величия».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу