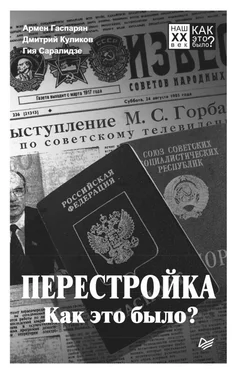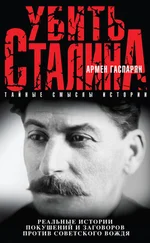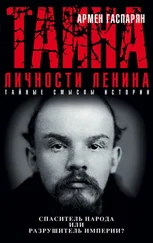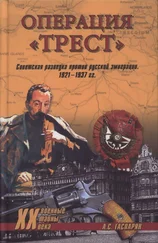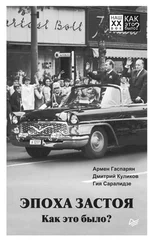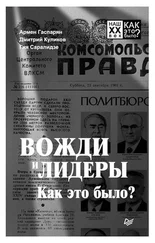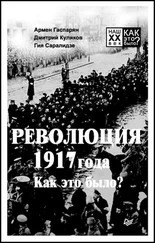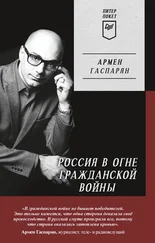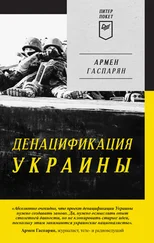Г. Саралидзе:
Не только интеллигенция, мне кажется.
Д. Куликов:
Вы поймите, это у меня не ностальгия по советскому проекту. В истории вообще ничего вернуть нельзя. Как фарш невозможно снова превратить в мясо. Этого не бывает. Единственный момент, который меня по-настоящему интересует, – это способ принятия властно-политических решений, которые меняют исторический тренд. Как при этом не допускать ошибок?
Я говорю о том, как используют энергию масс по-ленински, только уже против Ленина. Как создать ситуацию, в которой массы неосознанно будут делать то, что требуется? Кстати, требуется не власти (хотя говорили, что это именно власть делала). Власть уже к тому времени ушла из официальных органов, и у генсека, который к концу 1980-х был просто смешон, ее не было. Где, у кого власть, люди не знали.
Г. Саралидзе:
А радикализм какой проявлялся! Ведь он тоже родом из 1917 года. Когда мы все до основания разрушать собирались. Может быть, если бы мы к своему прошлому относились по-другому, понимали – да, вот это плохо, а это хорошо, и брали хорошее…
А. Гаспарян:
Так прошлое канонизировано было, другого нет! Если поколения выросли на эпическом образе Макара Нагульного, который ради торжества революции собственную мать готов был зарубить, то подавляющее число людей будет мыслить именно в таком векторе: чтобы что-то сделать, сначала надо предыдущее сломать. Мы наш, мы новый мир построим. Все же выучили эти слова? Вот этим и занимались в 1989–1990-м.
Г. Саралидзе:
Мне кажется, что тезис, о котором говорил Дима, о невозможности перестроить, реформировать систему – во многом отсюда…
Д. Куликов:
Все можно было реформировать, даже в самый последний момент. Это зависит от подхода. И кстати, в этом смысле Андропов их немножко напугал. Родовой травмой правящей советской элиты было то, что она модернизировалась только с помощью механизма репрессий. Максимально жестких, как при Сталине, или мягких, как, возможно, Андропов бы сделал. Но элита не хотела этого. Это первое. И второе. К тому времени сформировалось понимание, что наследственной элиты у нас не получается. Пока ты в номенклатуре, еще ничего, дети либо на Западе учатся, либо занимают места номенклатурные, но при этом элитой не становятся, потому что там нет этого бульона, нет деятельности, которая позволяет элите расти. Мир ничего, кроме собственности, не придумал для воспроизводства власти. Вот собственность – значит власть. У кого больше собственности (по Марксу – капитала), тому и будет власть принадлежать. Поэтому никуда нам не деться, надо, чтобы у нас элита была деятельной, собственность – неотбираемой, священной. А почему она священна? Не потому, что это твой дом, или акции, или еще что-то, а потому, что наличием капитала обосновывается право на участие во власти. И какая-то часть нашей номенклатуры боролась именно за формирование наследственного механизма своей элитности.
Г. Саралидзе:
Это в 1980-х?
Д. Куликов:
Понимание уже было.
А. Гаспарян:
Самый конец 1980-х.
Д. Куликов:
Это было не так явно, как я говорю. Но если связать это с первым тезисом про репрессии: пока ты в кресле первого секретаря – ты король, только тебя оттуда отставили – ты ничто и дети твои ничто. Это все очень хорошо знали, и это главное, что двигало элиту в этом направлении.
А. Гаспарян:
Поэтому перестроечная печать и писала: старший сын первого секретаря обкома на самом деле возглавляет кооперативное движение. Это вызывало, мягко говоря, нелюбовь к секретарю обкома. И тогда возникло движение, о котором сегодня мало кто вспоминает, – борьба с коррупцией. У нас все самозабвенно начали бороться с коррупцией. До позеленения. Трансляция программы «Человек и закон» все рейтинги била. Какой там футбол, какой съезд! Ты вспомни лозунги, с которыми выходили люди: «Ельцин победит коррупцию!» Ельцин, побеждающий коррупцию! Я напомню, что Ельцин возглавлял московских коммунистов до этого, и ему ничто не мешало заниматься борьбой с коррупцией. Но как все повернулось!
Д. Куликов:
А как все технично сделано было! Узбекское дело – Гдлян, Иванов. Ну, Восток – дело тонкое. А Грузия? Где-то высоко в горах, «не в нашем районе», были разные пережитки.
Г. Саралидзе:
Цеховики и так далее… Это вообще характерно для Закавказья.
Д. Куликов:
Армения, Грузия – без разницы. Но вдруг это стало предметом рассмотрения. Как будто это пример того, что вся система насквозь прогнила и ни на что не годна. Как же это интерпретировалось?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу