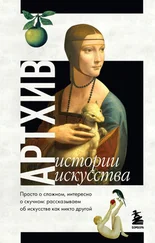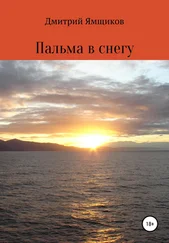Его слушали, кивали, хвалили, адресовали к следующим знакомым, может быть, порою не без кривой улыбки в спину и перемигивания с гостями. А он, протирая на плечах пальто, нес свой груз дальше. Денег, которых Честняков искал для продолжения работы, для практического совершенствования замысла и опытов претворения его в реальность, никто не давал. Показал он свои работы и Репину в «Пенатах». Репин предложил выставиться в «Мире искусства», а глину Честнякову и так давно предлагали пустить в образцы для фарфоровых фабрик. Опять, словно глухим, надо было объяснять, что все сделанное им едино, что нет тут живописи, прозы, скульптуры, и записывать новые адреса. Вот только сказки, пожалуй, и можно было выделить, и стараниями новых знакомцев — А. Чапыгина, К. Чуковского и С. Городецкого — выйдет в издательстве «Медвежонок», книжка сказок Честнякова с его рисунками и будет хоть на что воротиться в Шаблово.
Уроки поездки были горькие. Сердце ожесточилось и в ожесточении стало пристальней и тверже: «Много ряби на поверхности вод, а ею-то занимается большинство. И душа исстрадалась, что мало делается для коренного воздействия на жизнь. Кругом пасти и ловушки для всех, чтоб не было ни от кого капитального служения, не шли бы дальше ремесленного творчества. И так жизнь мало совершенствуется, тянется по кочкам и болотинам, тогда как давно пора устраивать пути и дороги, могучую универсальную культуру». Не одно это ожесточило его в городе. За человеческим гневом и живой обидой стояло сомнение философа, не умеющего замкнуть цепь мысли и все время поэтому принужденного восполнять недостаток ясности и неотчетливость знания насильственной риторикой или скороговоркой. Поэтому глиняный город все не мог завершиться и все рос, поэтому живописный «Город Всеобщего Благоденствия» скрывал в композиции растерянность художника перед неуверенным замыслом мечтателя, поэтому роман все толстел, но не развивался, а монологи были переполнены многоточиями, словно мысль боялась остановиться.
Есть в «Марко Бесчастном» скептический оппонент героя — Незнакомец, и иногда он догадывается о горьких для Честнякова вещах: «Мы думаем, что вы о том сказали — для красоты, чтобы картиною воображение потешить! Как видно, любите деревню и в то же время прельщаетесь культурой городов...». И, смотрите, как отвечает alter ego Честнякова — Марко: «Да, мы культуру городов хотели бы к себе перенести, но только так, чтобы без грязи, которую заводы изрыгают... И так по-разному машинные затеи примеряем и все пугаемся, что сильная культура, возможно, истребит родную нашу бытность...». И, пугаясь, он ищет сказочных путей сохранения этой бытности, сберегая какие-нибудь милые постройки при помощи большой лопаты, переносящей «памятник» в стеклянную резервацию. И еще не развив проект, кажется, чувствует его неосуществимость и пускается на волю фантазии, летящей «впереди практического дела», будто заговаривает себя, отводит от опасных мест, где мечтание начинает тесниться практикой и, наконец, обессиленный противоречиями, вовсе останавливается: «Вот вижу я: запруда наша затопляет мирные могилы родного кладбища, и храм стоит на низком берегу... И жаль мне их и нашу трудовую жизнь с укладом вековым, рыдания сжимают грудь, и вижу я умерших и живых перед собою... И тогда не знаю: строить иль не строить, хотя бы самое великое возможно было... Как лучше быть?.. Пугает нас культура городов: она имеет примеси греха...».
Впрочем, горечь сомнения снимается здесь для слуха и сердца ритмической игрой возлюбленного слова, которое особенно остро воспринимается перед лицом угрозы...
Тогда в России уже шла война.
Окончательное возвращение в деревню в 1914 году много повредило развитию его замыслов, переведя их в чистый план художественной утопии. Он еще не замечает усталости. И не замечают ее в нем односельчане. Дети как прежде учатся у него, и в веселые дни он как встарь нашивает им красные глиняные пуговицы, надевает бумажные и тряпочные пестрые пелерины и маски и устраивает детские «фестивали» к утешению всей деревни. Он еще ездит по окрестным деревням со своим глиняно-живописным театром, но утомленная идея словно задерживается в росте. Он больно чувствовал это и ссылался про себя на войну и готовил обращение к воюющим народам, напоминая из Шаблова о детском царстве всеобщего единения, но настоящее-то поражение все-таки он потерпел именно в эту последнюю петербургскую поездку, обнаружившую общую глухоту к самому его принципу этико-эстетического преобразования деревни.
Читать дальше




![Георгий Юдин - Спасенная душа [Рассказы. Сказки. Притчи]](/books/388695/georgij-yudin-spasennaya-dusha-rasskazy-skazki-pri-thumb.webp)