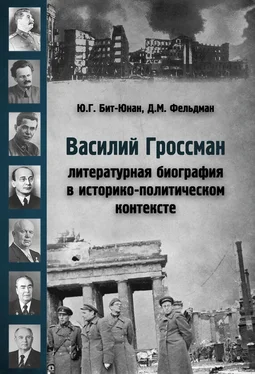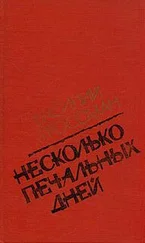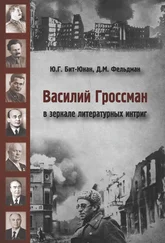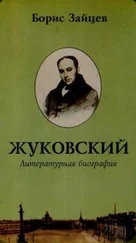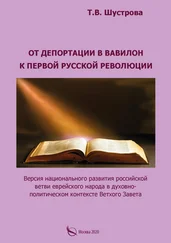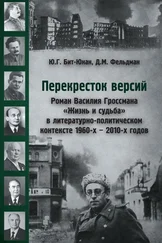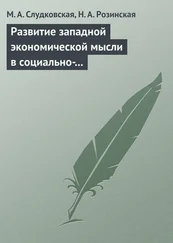Соответственно, речь опять шла об искренности, гуманизме, мастерстве. Таков и вывод, формулировавшийся рецензентом: «Не раз писали о чеховской традиции в творчестве Гроссмана. Очевидно, следует понимать ее не только в историко-литературном плане – манере повествования или особенностях сюжета. Философский, нравственный смысл ее заключен в обостренном чувстве совести и правды, в неодолимом стремлении освободить человеческое сознание от всевозможных догм».
Завершалась рецензия гроссмановской цитатой из очерка об Армении, вынесенной и в заглавие. По словам Гитович, «как завещание нам звучат последние слова очерка: “Пусть обратятся в скелеты бессмертные горы, а человек пусть длится вечно”».
Рецензия Гитович весьма примечательна именно в аспекте критической рецепции. Акцентировалось, что Гроссман – классик не только советской литературы, но и мировой.
Откликнулась также «Литературная газета». 20 марта была опубликована рецензия В.П. Рослякова «Воздух истории. О сборнике рассказов Василия Гроссмана “Добро вам!”» [215].
Характеристика сборника была, по сути, стандартной. Рецензент утверждал: «В книге “Добро вам!” писатель останавливается не столько перед конкретными фактами истории, сколько перед самой историей, перед историей собственной жизни и полувекового существования Советского государства».
Далее предлагалась характеристика автора сборника. По словам рецензента, «Гроссман, каким он предстает перед нами в этой книге, видит не только частности истории, пусть и самые значительные, но и ощущает, понимает эти частности во всем их объеме и во всей сложности того, чем была переполнена минувшая половина века. Это понимание вошло в его человеческий и писательский опыт. Но надо быть большим мастером, чтобы выразить это в рассказе, и порой в коротком рассказе, где нет ни значительных событий, ни потрясающих коллизий».
Гроссман, согласно Рослякову, рассуждал о проблемах осмысления жизни. Таков пафос книги в целом: «Писатель напряженно думает, что есть главное и неглавное в жизни, преходящее и непреходящее – вечное, всегда нужное и необходимое для человеческого счастья. Часто в этих поисках писатель достигает предельного драматизма».
По словам рецензента, Гроссман, рассуждая о проблемах осмысления жизни, оставался писателем исключительно советским. Росляков акцентировал, что в публикуемых рассказах автор, «опираясь на свои поиски высшей человеческой нравственности, которая для него неотъемлема от нравственности коммунистической, сумел произнести, может быть, самые глубокие и самые убийственные слова о фашизме».
Очевидно, что здесь, как в прочих откликах, главными характеристиками писателя Гроссмана были признаны мастерство, искренность, гуманизм. Это и фиксировалось уже цитированной статьей Мунблита о Гроссмане – в нормативной Краткой литературной энциклопедии.
На том обсуждение гроссмановских прозы в СССР, по сути, завершилось. Причиной были опять политические изменения.
В июне 1967 года началась и закончилась так называемая Шестидневная война. В этом конфликте правительство СССР – изначально на стороне арабских государств, чьи войска были разгромлены израильскими.
СССР сразу заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Что фактически и обозначило начало очередных антисемитских кампаний. Именуемых, как повелось издавна «антисионистскими».
Пресловутая «еврейская тема», с которой предсказуемо ассоциировалось восприятие гроссмановского наследия, стала особенно нежелательной. Ситуация, правда, менялась постепенно. До поры критики еще обсуждали новые гроссмановские публикации, но ограничения – на уровне тематики и проблематики – ужесточались. А в октябре 1973 года начался и закончился очередной арабо-израильский конфликт, получивший название Войны Судного дня.
Объединенные войска арабских государств, напавшие на Израиль, были вновь разгромлены. Соответственно, в СССР «антисионистские» кампании уже не прекращались. В этом контексте Гроссман – опять лишний.
Формально запрет не вводился. Гроссман по-прежнему считался исключительно советским писателем. Было лишь так называемое «замалчивание».
На общем фоне советского литературного процесса «замалчивание» гроссмановского наследия осталось практически незамеченным. Писатель умер, новых публикаций нет, значит, критикам и обсуждать нечего. Ну а выбор тем литературоведческих работ был еще более жестко регламентирован. Так, Бочаров издал первую монографию о Гроссмане в 1970 году. Успел. Следующая – двадцать лет спустя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу