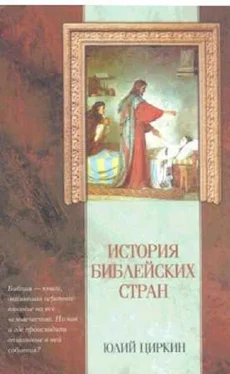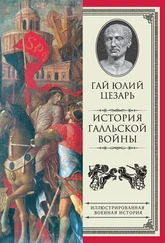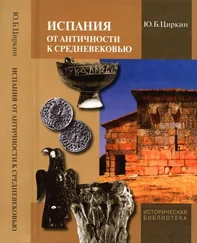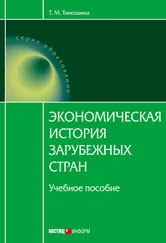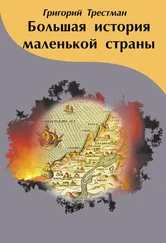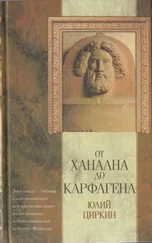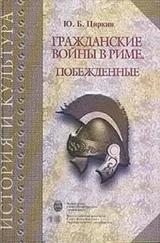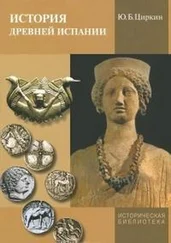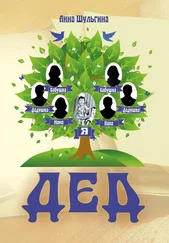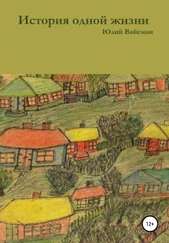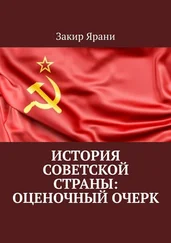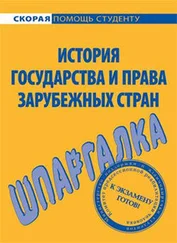Палестинские города-государства, вероятнее всего, никак не объединяются, и каждый из них существует отдельно. Но и после возникновения сети городов здесь сохранилось довольно значительное количество сельских поселков, а в Заиорданье и на юге, в Негеве и Синае, продолжало обитать кочевое и полукочевое население, занимавшееся скотоводством и частично связанное, может быть, с добычей медной руды (Мерперт, 2000, 141). На юге земледельческой зоны Палестины в районе города Арада раскопки показали существование в радиусе от 5 до 15 км неукрепленных деревень, материальная культура которых мало чем отличалась от городской (Weippert, 1988, 173). Видимо, это и был город-государство, "ном" Арад, в рамках которого существовали взаимосвязи между городом и деревней, между городской и сельской экономикой. Подобные города-государства, состоявшие из относительно крупного городского центра, более мелкого города и группы небольших поселков, возникают во многих местах Палестины (Richard, 1987, 27–28). На менее засушливых и более плодородных территориях города стояли ближе друг к другу (Weippert, 1988, 173), так что размеры этих "номов" были меньше. Их экономика была связана с поставкой мяса и шерсти соседними скотоводческими племенами — кочевниками или полукочевниками (Weippert, 1988, 173–174). Последние явно стояли вне государственной организации.
Ханаанский мир обладал довольно разветвленными внешними связями. Но в политическом и экономическом плане наибольшее значение имели контакты с Египтом. Если со сравнительно далеким Библом египтяне поддерживали оживленные торговые связи, оказывая и огромное культурное воздействие на этот город, то более близкие районы рано стали объектом не только торговых, но и военных экспедиций Египта. Синайский полуостров привлекал египтян богатыми залежами меди и бирюзы. И контакты с населением этого полуострова египтяне установили довольно рано, уже во времена I династии, т. е. на рубеже IV–III тысячелетий до н. э. Один из первых фараонов — Нармер, может быть, стремясь взять в свои руки важный торговый путь, проходивший в этом районе, подчинил себе юго-западную часть Палестины, хотя и явно ненадолго (Yevin, 1960, 199–203; Levy and oth., 1995, 26–33; Yurgo, 1995, 86–87). А при III династии происходили уже несомненные военные столкновения (Helck, 1962, 13–14). Они еще более усилились при последующих фараонах. Но фараоны не ограничились Синаем. Третий фараон VI династии Пиопи I (XXIV в. до н. э.) не раз направлял свое войско против "тех, кто на песке" и севернее, сокрушая их твердыни, уничтожая сопротивлявшихся, вырубая виноградники и сады, сжигая поселения (Перепелкин, 1988, 376–377). Это описание, вероятнее всего, относится к Палестине (Helck, 1962, 21).
Фараоны не ставили своей задачей подчинение Палестины, включение ее в состав царства Верхнего и Нижнего Египта. Это были, по существу, грабительские походы, и они наносили жителям ощутимый вред. Такие походы, уничтожая и людские ресурсы, и производительные силы, задерживали социально-политическое развитие Палестины. Возможно, подчинение египтянами Синая привело к гибели южно-палестинский город Арад, чья экономика была в значительной степени основана на торговле синайской медью и медными изделиями (Amiran, 1986, 76). С другой стороны, однако, сама необходимость защиты от нападений как соседних скотоводческих народов, так и египтян стимулировала объединение людей и строительство укреплений, становившихся с течением времени настоящими городами.
В 2600–2300 гг. до н. э. и в Сирии, и в Палестине появились люди, изготовлявшие так называемую хирбет-керакскую керамику (Weippert, 1988, 152). Происходили они, вероятно, из Восточной Анатолии (Мерперт, 2000, 146). Их считают хурритами, народом, который в будущем сыграет значительную роль в Передней Азии. С их появлением связано разрушение некоторых городов (Amiran, 1986, 75–76). Но это вторжение в целом не нарушило развитие городской цивилизации. Хурриты, или протохурриты довольно скоро, по крайней мере в Палестине, ассимилировались и включились в общую социально-политическую эволюцию.
Внутренняя Сирия была в гораздо большей степени связана с Месопотамией. В то время, когда еще не был одомашнен верблюд, прямой путь, идущий через пустыню и соединяющий Двуречье с Палестиной и далее с побережьем Средиземного моря, а также Египтом, был практически невозможен (Дьяконов и др., 1988, 210). Поэтому Месопотамия могла сообщаться со средиземноморским побережьем только через Северную и частично Центральную Сирию. Понижение горных цепей, отделяющих Внутреннюю Сирию от Средиземного моря, открывало и три важнейших пути между Месопотамией и этим морем. На этих путях и возникают значительные центры Сирии бронзового века: Халпа (Халеб, Алеппо), Эбла, Катна. Северная Сирия, через которую проходили эти пути, отличалась от южной части страны относительным плодородием и наличием достаточных водных ресурсов, что, наряду с пролеганием торговых путей, способствовало возникновению здесь городов (Liere, 1963, 114–117). Во второй половине III тысячелетия до п. э. наиболее важным из них была Эбла.
Читать дальше