Стремясь предотвратить смуту в королевстве, покойный король еще в июне 1225 года сделал необходимые распоряжения относительно наследования. При всех своих недостатках Бланка Кастильская не была лишена и достоинств. Одно из них заключалось в ее неистощимой плодовитости: она родила многих сыновей, и пятеро из них благополучно пережили все опасности детского возраста. Ее последний ребенок по имени Филипп Дагобер должен был стать священником. Согласно утвердившемуся во всех княжествах королевства обычаю, которому Капетинги не следовали со времен Филиппа лишь по воле случая, каждый раз определявшего новые обстоятельства появления на свет их наследников, Людовик VIII оставил сыновьям свое достояние, разделив его на четыре части. К старшему переходили вместе с короной и всем золотом и серебром, хранившимся в башне Лувра, земли домена, принадлежавшие предкам — герцогам Франции, а также и Нормандия, которую ни в коем случае не следовало отделять от этих владений. Второму сыну, Роберту, отходило унаследованное от бабушки графство Артуа, при условии, что в случае, если он не оставит после себя наследника мужского пола, этот фьеф будет возвращен королю. Последние по времени приобретения земли Анжу и Мен должны были перейти к третьему сыну (он умер, и наследником этой доли стал родившийся уже после смерти отца Карл — его шестой ребенок). Альфонс, четвертый сын, будущий супруг Иоанны Тулузской, получил Пуату и Овернь. По достижении совершеннолетия каждому из братьев предстояло вступить во владение своей долей. Несколькими годами позднее эти доли получили название «апанажей», уделов от «владений французской короны». Никто не мог предположить, что подобный раздел сможет нанести какой-либо ущерб короне. Будучи связанными с короной феодальными отношениями, эти провинции, хотя и розданные наследникам, объединялись ею как и сами «сыны Франции» — отныне единственные обладатели права на геральдические лилии в своих гербах — они были вместе под властью старшего брата, бесспорного главы этого сурового семейства, не склонного к легкомыслию. Историки рассказывали нам, как братья Людовика IX покорно таскали вместе с ним камни для строительства аббатства цистерцианцев в Руаймоне. Этот любопытный эпизод точно отражает историческую реальность — неколебимое единство королевской семьи, руководимой согласно предписаниям патриархальной морали, способствовавшей укреплению монархии на всем протяжении XIII столетия.
Управляя государством, Людовик IX неизменно следовал нормам этой морали, руководствуясь не столько теми упрощенными принципами, которые, если верить укоренившимся представлениям, ставятся в заслугу внушившей их ему матери, сколь назидательным примером своего деда. Память о нем была для короля священна. Людовик завершил построение того идеологического здания, возникновение которого было значительно ускорено благодаря победе при Бувине, и сделал он это, подняв авторитет королевской власти, освятив ее прежде всего своими поступками, добродетельностью и набожностью, гораздо менее сомнительной по характеру, нежели та, которую некогда пытались приписывать Филиппу Августу. Для укрепления власти, держателем которой Людовик являлся, широко использовались средства символики. Подавая пример безупречной честности, сочетая в себе качества набожности и рассудительности, соединенные со смелостью, король к тому же умел и читать. Постоянно читая и перечитывая в своих покоях Библию, он пришел к решению о преобразовании ordo — литургического ритуала помазания. Между тройным обетом, которым будущий король обещал «по своей воле» поддерживать «истинный мир», и самим миропомазанием был вставлен ритуал посвящения в рыцарское достоинство, знаменующее неразрывную отныне связь между королевской властью и рыцарством.
Позднее, в 1240 году, Людовик IX приобрел еще один венец, терновый, тот, что нес Иисус, и на веки вечные поместил реликвию в центре великолепного ковчега, которым стала церковь Сент-Шапель. Король потратил баснословные суммы на то, чтобы встроить в королевский дворец в парижском сите этот важнейший символ могущества монархии, создание идейной основы которой уже завершалось в то время юристами. Одним из таких юристов был Жан де Блано. Его можно отнести к многочисленным в ту эпоху выходцам из низов, которые поднялись благодаря образованию: предки Жана были рабами, отец — мелким прево в Маконнэ, скопившим достаточно средств, чтобы отправить сына учиться римскому праву в Болонью. Жан де Блано считал, что король может привлекать к воинской службе не только своих прямых вассалов, но и арьер-вассалов, то есть вассалов своих вассалов, даже в том случае, когда их непосредственный господин, сеньор, противится этому; ведь, писал он, этих людей призывают служить «ради общественного блага» и «во имя отечества», причем не их малой местной родины, а большой родины, под которой подразумевается королевство. Но для этого бургундца, ставшего на склоне лет епископским судьей в Лионе, оно было не королевством Франции, а «королевством Галлии».
Читать дальше
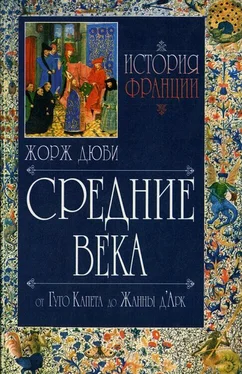


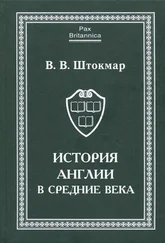

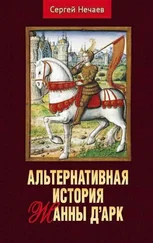
![Фрэнсис Дворник - Центральная и Восточная Европа в Средние века [История возникновения славянских государств] [litres]](/books/389960/frensis-dvornik-centralnaya-i-vostochnaya-evropa-v-s-thumb.webp)





