С начала XII века по мере того, как в общем русле прогресса индивидуальное сознание все… более освобождалось от слепого общего конформизма, а ученые мужи глубже вдумывались в содержание Нового Завета, когда само Священное Писание становилось все более доступным для мирян, еретические вероотступления стали возникать и множиться повсеместно в самых разнообразных формах. Нам трудно провести границы между этими ересями, поскольку то немногое, что мы о них знаем, известно лишь со слов тех, кто с ними боролся. В пылу борьбы, в ослеплении поборники веры теряли способность отличить добрые семена от плевел. А те, кого они допрашивали, молчали под пыткой или давали маловразумительные, уклончивые ответы. Во всяком случае, можно с уверенностью утверждать, что чаще всего те мужчины и женщины, которые вынуждены были скрываться от преследований — а многих из них находили и отправляли на костер, — мечтали лишь о том, чтобы избавить христианство от обрядности, от всего того плотского, что сковывает дух. Возрождались идеи, внезапно возникшие и получившие. широкое хождение во франкских землях в первые годы второго тысячелетия: проповедовался отказ от посредничества священников в общении с Богом, от пышных литургий, от клятв с призванием Господа в свидетели, от освящения плотской связи между мужчиной и женщиной, от изображения Всевышнего в образе человека. Все эти требования мало чем отличались от идей, с которыми выступали церковные реформаторы. И успех реформы уже сам по себе содействовал возрождению таких мыслей. Ранее всех, в начале XII века, обратились к этим идеям несколько вольнодумцев, таких, как монах Генрих Лозаннский и Петр из Брюи, проповедовавший во всем Провансе и в Септимании, где он подвергал сожжению кресты.
Однако в большинстве своем люди, желавшие улучшить Церковь, так далеко не заходили. Более всего им претило засилье денег. И миряне, и клирики отрекались от своих богатств, что толкало их к выступлениям против обогащения высшего духовенства, против всевластия скрибов, фарисеев, податных откупщиков. Такой образ действий был характерен для вальденсов, последователей Петра Вальдеса. Аскетический, суровый образ их жизни ярко высвечивал ущербность тех церковников, для которых служение стало лишь рутинным ремеслом, причем весьма доходным. Народ восхищался этими «добрыми людьми», как вальденсы себя называли, внимательно прислушивался к их словам. Его привлекал призыв к менее формализованной религиозной обрядности и более простым жестам искупления. Речи новых проповедников никого не приводили в смущение, ибо строились они на темах, сходных с теми, которые развивали проповедники, послушные епископам, использовались те же слова, образы, ставились в пример те же лица, начиная с самого Спасителя. И вот повсюду стали возникать небольшие группы верующих, отнюдь не желавших отколоться от Церкви, но стремившихся, напротив, показать, что она способна к внутреннему обновлению и может вновь обрести первородную чистоту. Однако преследования со стороны обеспокоенных властей ожесточали их, и постепенно они склонялись к утверждению, что повиноваться следует скорее Господу, чем людям, начинали скрываться от властей, сопротивляться им.
Правда, во Францию проникали и верования совершенно иного характера. Эвервен де Штейнфелд, каноник Ордена премонстрантов, отмечает их появление в Кельне в 1143 году. Пришли они сюда с Востока. Современники не ошиблись, называя приверженцев этого течения бограми — болгарами, или же греческим словом «катары». Течение это было манихейским. Его адепты, помимо веры в переселение душ, верили также и в существование второго бога — бога зла, бога материального мира, тоже творца, ведущего против бога добра вечный бой, исход которого непредсказуем. Понятно, что такого рода верования были совершенно чужды христианству. Эти верования, тем не менее, получали распространение, поскольку их проповедники тоже использовали знакомый набор слов, те же аллегории, что и священники. Такие верования послужили каркасом — по правде говоря, довольно шатким — новой религии. Если верить документам (подлинность которых весьма сомнительна) церковного собора, состоявшегося в 1169 году в Сен-Фелиу-де-Лаураге, сторонники этой религии намеревались основать настоящую Церковь с собственными обрядами, иерархией, епископами и диоцезами. К концу века ортодоксии противостояли два сформировавшихся еретических течения. Ален де Лилль четко их различает: есть вальденсы и есть катары; и на юге Галлии первые яростно нападают на вторых во имя защиты христианства. В городах северной части королевства ересь заявляет о себе с не меньшей силой и уже к 1135 году становится причиной беспокойства. В начале второй половины столетия в прирейнских землях, в Лотарингии, во Франции сложилось убеждение, что ересь несет в себе серьезную грозу для церковных структур. В 1153 году папа Евгений III призывает епископа Аррасского к бдительности. Десятью годами позднее Людовик VII делится своим беспокойством с Александром III. Епископы Невера и Осера делают все возможное, чтобы обезвредить зачинщиков смуты и их сторонников. Развернута и эффективно действует целая сесть учреждений инквизиции, и там, где обнаружены ростки ереси, зажигались костры, очищая франкские провинции. Однако на юге обращение к такого рода мерам запаздывало, хотя именно здесь еретическая напасть нашла для себя гораздо более благоприятную почву.
Читать дальше
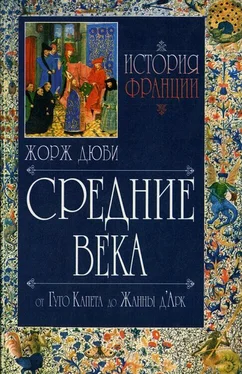


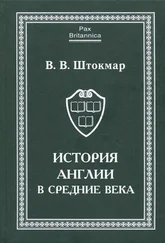

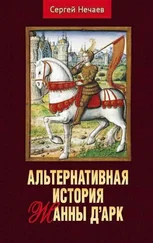
![Фрэнсис Дворник - Центральная и Восточная Европа в Средние века [История возникновения славянских государств] [litres]](/books/389960/frensis-dvornik-centralnaya-i-vostochnaya-evropa-v-s-thumb.webp)





