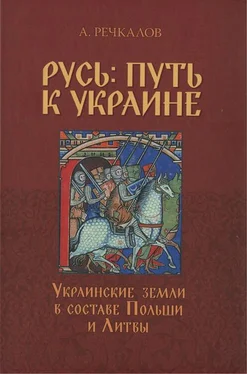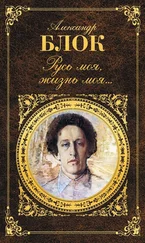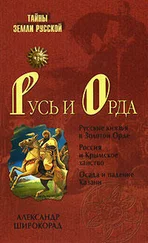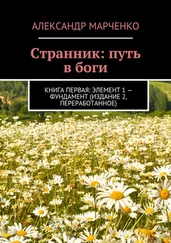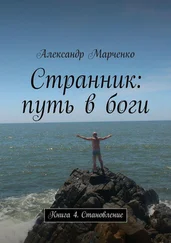Но самый чувствительный урон влиятельности Киева нанесли не геополитические изменения или княжеские грабежи, а набиравшая силу удельная система. Примерно в середине XII в. государство Русь распалось на самостоятельные княжества. В конгломерате мелких государственных образований Киев, остававшийся по-прежнему одним из величайших и красивейших городов Европы, стал быстро терять статус главного города страны. В удельных княжествах стремительно вырастали собственные столицы, и каждая из них забирала себе часть прежнего киевского влияния. Именно поэтому на протяжении второй половины XII в. постепенно приобретал формальный характер, а затем и вообще перестал существовать институт «старейшинства» киевских князей. Жившие в то время суздальский князь Всеволод Большое Гнездо и галицкий князь Роман предпочитали править в собственных княжествах, а в Киеве держать послушных им князей. Поэтому изменения, происходившие в статусе Киева, были всего лишь отражением более глубокого процесса перераспределения властных полномочий между бывшей столицей единого государства и столицами ставших самостоятельными княжеств. Однако и после утраты официального положения главного города, Киев продолжал обладать рядом преимуществ перед центрами удельных княжеств, а его правители по-прежнему носили древний титул великих князей «всея Руси». Город на Днепре сохранял свою притягательность как для многочисленных отпрысков династии Рюриковичей, с головокружительной скоростью менявшихся на киевском столе в последние десятилетия перед монгольским нашествием, так и для внешних врагов.
Отметим, что упомянутый погром Киева войсками князя Боголюбского в 1169 г. рассматривается российской историографией в качестве основного доказательства теории «о перемещении центра русских земель». Эта теория, без излишней скромности, предусматривает только одну точку, где этот «блуждающий» центр обрел свое новое пристанище — Владимир-на-Клязьме, а затем Москву. В связи с этим Е. В. Пчелов замечает, что данная концепция со времен Н. М. Карамзина стала общепризнанной, однако она «абсолютно не объясняет того, почему же за потерявший былое величие город (Киев — А. Р.) продолжалась столь ожесточенная борьба между князьями Рюриковичами». По мнению этого автора, объяснить данное противоречие можно, лишь признав, что Киев все-таки «столицей остался (по крайней мере, столицей в Южной Руси), так же как и Владимир сделался столицей Руси Северо-Восточной. Сдельная система вообще вряд ли может иметь один-единственный центр».
Мнение Пчелова о том, что удельная система не может иметь единственный центр власти, представляется вполне убедительным. А вот относительно общепризнанности теории, утверждающей, что разгром Киева 1169 г. стал «концом истории великого киевского княжения, после которого «центр русских земель» переместился на северо-восток, уважаемый автор очевидно ошибся. Его российские коллеги не стоят на месте и, творчески развивая мысль царских историков, совместили «перемещение центра Руси» с убийством владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского, произошедшим в 1174 г. — через пять лет после упоминавшегося разграбления Киева. Князь этот, по словам Н. И. Костомарова «правил в своей земле самовластно, забывши, что он был избран народом, отягощал народ поборами через своих посадников и тиунов и по произволу казнил смертью всякого, кого хотел».
Несомненно, Андрей Боголюбский, который по выражению того же Костомарова являлся «первым великорусским князем», имел определенные заслуги перед своим княжеством. В частности, именно ему Россия обязана своей величайшей христианской святыней — иконой Владимирской Божьей матери. Ее, без особых угрызений совести, князь Андрей попросту украл во время своего правления в Вышгороде под Киевом. Икона Богородицы, написанная по преданию евангелистом Лукой и привезенная на Русь из Царьграда, хранилась в женском монастыре и открыто взять ее оттуда было невозможно. Подговорив священников, князь похитил икону ночью и «вместе с княгинею и соумышленниками тотчас после того убежал в Суздальскую землю». Взойдя через некоторое время на владимиро-суздальский престол, Андрей Боголюбский построил в своей столице церковь Успения Богородицы и поставил в ней «похищенную из Вышгорода икону, которая с тех пор начала носить имя Владимирской».
О том, в какой мере Владимиро-Суздальская земля оценила заботы своего правителя, свидетельствует гибель князя Андрея, чье правление со временем становилось все более жестоким. Когда князь повелел казнить брата одного из своих слуг, челядь быстро составила заговор, в котором участвовало около 20 человек. Выпив для храбрости, заговорщики ворвались ночью в княжеские покои в селе Боголюбове и убили своего повелителя. Обнаженный труп князя Андрея был брошен в огороде на всеобщее обозрение и съедение псам. Так труп и пролежал два дня, пока по настойчивым просьбам княжеского слуги его не накрыли и не перенесли в церковный притвор. Из страха перед заговорщиками, которые в то время грабили княжеский дворец в Боголюбове, тело князя похоронили только через неделю после убийства. Народ же, услыхав, что князь убит, «бросился не на убийц, а, напротив, стал продолжать начатое ими. Боголюбцы разграбили весь княжеский дом», убив при этом посыльных и стражу. Грабеж происходил и во Владимире-на-Клязьме, где народ нападал на посадников и тиунов, их дома грабили, а некоторых хозяев убили.
Читать дальше