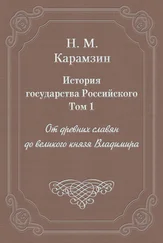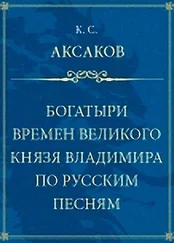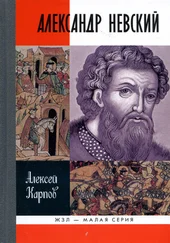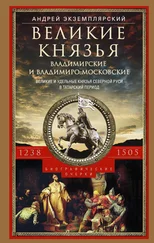Данное обстоятельство специально отмечено и в статье А.А. Гиппиуса (98.1. С. 61—62, 69). Это весьма глубокое, новаторское исследование (98. I—III), первые две части которого были опубликованы ещё до выхода в свет первого варианта настоящей книги (95), однако, к сожалению, остались мне неизвестными. Наблюдения А.А. Гиппиуса, несомненно, очень важны. Однако основные его выводы: о трёхкратном редактировании текста «Поучения» и о вычленении из комплекса сочинений Мономаха некой изначально самостоятельной «Великопостной беседы», кажутся мне излишне громоздкими и не обязательными. Примечательно, что для обоснования своих выводов исследователю приходится допускать деятельное участие в работе над трудами Мономаха ещё одного лица — некоего «технического редактора», писца, по собственному усмотрению, но притом чаще всего ошибочно вставляющего отдельные фразы, добавленные Мономахом, на ненадлежащее им место. Думаю, что экземпляр «Поучения», переданный Мономахом одному из своих сыновей и попавший затем в руки Лаврентия или, скорее, кого-то из его предшественников, должен был быть, так сказать, «авторизован» князем.
Показательно, что в 1151 году князь Вячеслав Владимирович, пятый сын Мономаха, обращался к Юрию (шестому сыну Мономаха) с такими словами: «Язъ тебе стареи есмь не маломъ, но многомъ: азъ уже бородать, а ты ся еси родилъ» (46. Стб. 430; ср. 127. С. 57—63).
См. также ниже примечание к этим словам «Поучения».
Обычно «многострастный» переводят как: «многострадальный». Однако, учитывая общий настрой всего письма, предпочтительнее принять другое значение этого слова (171. С. 70), а именно то, которое приведено в настоящем переводе.
Перевод не бесспорный. Д.С. Лихачёв, например, переводит: «Много борешься, душа, с сердцем и одолеваешь сердце моё». Однако кажется более вероятным, что Мономах сетует на то, что именно сердце одолевает душу его, «зане тленьне сущи».
Как отметил Н.В. Шляков, эти слова Мономаха обнаруживают сходство с молитвословиями недели мясопустной (канун Масленицы) или сырной (Прощёное воскресенье). Ср. седален на утрени недели мясопустной: «Помышляю день страшный, и плачуся деяний моих лукавых: како отвещаю безсмертному царю; коим же дерзновением воззрю на судию блудный аз...» (184. II. С. 224—225).
Предлагается исправление: «сын мой». Но можно принять и написание оригинала, так как хотя речь идёт о сыне Владимира Мономаха Мстиславе, далее подчёркивается, что он был крёстным сыном Олега Святославича.
Сыну Мономаха Изяславу, убитому в ходе войны с Олегом 6 сентября 1096 года.
Согласно «Повести временных лет», Мстислав неоднократно предлагал Олегу мир, обещая выступить посредником в его переговорах с отцом, — вскоре после занятия Олегом Суздаля и Ростова, после отступления к Мурому и наконец после битвы на Кулачке. Ниже Мономах, по-видимому, ещё раз цитирует письмо Мстислава (см.), причём близко к тому тексту первого послания Мстислава Олегу, который читается в летописи.
Эти слова можно понимать так, что Изяслав, как и Мстислав, был крёстным сыном Олега.
Упоминание матери убитого Изяслава свидетельствует о том, что Гида Харальдовна, первая супруга Мономаха, к февралю 1097 года была ещё жива. Нельзя исключать, однако, что она была оставлена князем, вступившим при её жизни во второй брак.
Вдову убитого Мономахова сына Изяслава.
В соответствии с завещанием Ярослава Мудрого Муром считался уделом отца Олега князя Святослава Ярославича, а Ростов принадлежал к уделу отца Мономаха Всеволода Ярославича.
Возможно, Мономах цитирует письмо своего сына, о котором он говорил выше. Ср. в летописи слова Мстислава, обращённые к Олегу: «Аще и брата моего убилъ [еси], то есть не дивьно: в ратех бо и цари и мужи погыбають» (45. Стб. 238).
О каком епископе идёт речь, неясно. Из дальнейшего видно, что Олег к моменту написания письма пребывал в Муроме, входившем в состав Черниговской епархии. Но о тогдашнем черниговском епископе Иоанне (ранее 1087—1111) известно, что он бОльшую часть своего пастырского служения тяжело болел («лежа в болести летъ 25»); следовательно, едва ли он мог сопровождать Олега в Муром. Возможно, имеется в виду ростовский епископ. В 90-е годы XI века ростовскую (суздальскую) кафедру возглавлял постриженник Печерского монастыря Ефрем.
Читать дальше
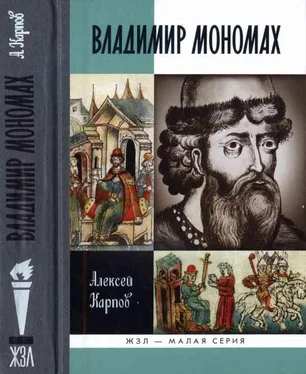
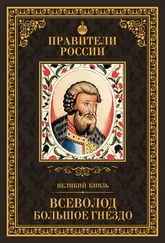
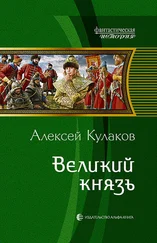
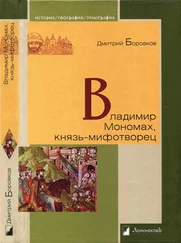
![Алексей Карпов - Владимир Святой [3-е издание]](/books/99718/aleksej-karpov-vladimir-svyatoj-3-e-izdanie-thumb.webp)