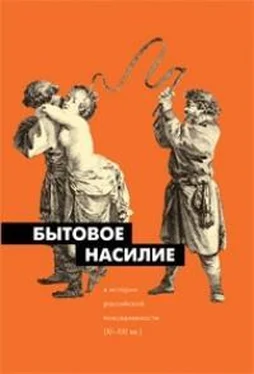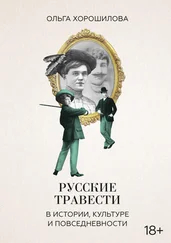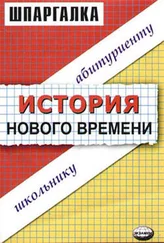Среди документов реальной судебной практики можно найти немало примеров того, что супруг и не думал разводиться («развода не искал») в случае обнаружения неверности своей супруги. Он часто был согласен на наказание его супружеской «половины» плетьми, кнутом или исправительными работами (при сохранении брачных уз и необходимости возвращения в семью после наказания). [73] Розанов Н. П. История Московского... М., 1869. Ч. 1. Прим. 308 (1742 г.); Ч. 2. Кн. 1. Прим. 327 (№3,1742 г.).
Жене, виновной в супружеской измене, запрещалось носить фамилию мужа. [74] Об этом с женщины бралась подписка. См.: Розанов И. II. История Московского... Ч. 2. Кн. 2. С. 132.
Церковные наказа- ппи епитимьи — для прелюбодеек были формально многолетними (от I до 15 лет). Это повелось от византийских нормативных кодексов, пред- 'шышинх либо покаяние с наложением епитимий, либо уж полное отлучение. [75] Суворов Я. С. О церковных наказаниях. Пб., 1876. С. 111—112; Розанов II. II. Ис- юрии Московского... Ч. 3. Кн. 1. С. 82 (Прим. 184 — 1, 3, 4); Кн. 2. Прим. 368 — 2, 3.
Практиковалось также пожизненное содержание в монастыре. [76] Нижник II. С. Правовое регулирование... С. 165.
Однако обращения мужей с требованием развести их (как того требовали церковные и светские установления) «но причине прелюбодеяния» почти во всех найденных нами случаях [77] См. Очерк второй наст, изд.: Муравьева М. Повседневные практики насилия: | уиружсское насилие в русских семьях XVIII в.
предполагали вступление мужа в новый брак (о чем они, собственно, и говорили весьма прозрачно и недвусмысленно в своих прошениях). Это заставляет уви- цг I ь в действиях подобных правдоискателей прямой умысел. Он «ненужных жен» им явно хотелось как-то избавиться, а самым надежным I пособом такого избавления выглядело обвинение несчастных в связи i другим мужчиной.
Как все это разнилось с последствиями адюльтера для мужа!
Обычно его лишь поручали наблюдению «отца духовного», который должен был устыдить его, образумить. [78] Документ о попытке неверного супруга убить мешавшую исполнению его штанов ♦ гну и ничтожности наказания его за измену см.: Розанов И. П. История Московского... Ч }. Кн. 1. Прим. 327 — 2. С. 122. См. также: Максимова Т. Развод по-русски Ц Родина. I'm. T9. С. 56.
Впрочем, обращений жен 1 просьбой развести их с неверными мужьями среди дел Духовной кон- | истории тоже немало, и как можно судить по резолюциям, некоторые и I прошений удовлетворялись. [79] п См. Очерк второй паст, изд.: Муравьева М. Повседневные практики насилия: супружеское насилие в русских семьях XVIII в.
На окраинах государства отношения в семьях регулировались не i голько писаным правом, сколько обычным. В этом плане по-своему показательны описания жизни казаков: измены в казацком быту были передки. Долгая разлука мужа и жены — одно из неизбежных условий поенного быта казаков — способствовала тому, что против искушения не выдерживали иногда и «добрые жены». [80] Гмелин С. Г. Путешествие по России для изслсдования трех царств естества: В 3 ч. СПб., 1771. Ч. I. С. 260.
В старину, подчеркнул исследователь казацкого быта более позднего времени, «на грехи жен за время отсутствия мужа смотрели снисходительно. Иной казак прощал жену, другой небольно бил — делал вид только, «чтобы родители не осудили». Даже если у жены был незаконный ребенок, то вернувшийся казак принимал его к себе, как родного сына». [81] *° Харузин М. II. Сведения о казацких общинах на Дону // «А се грехи...»: Русская i сменная... Кн. 2. С. 78—233.
XIX — начало XX в.: «о наказаниях дев за обиды против добрых нравов»
К началу XIX в. писаное светское право приобрело значительное влияние в городах, особенно в крупных, и, в частности, в высших слоях общества. Именно оно давало основание судить и оценивать поступки и проступки людей. Проект Уголовного уложения 1813 г. (часть III, 6-е отделение «О наказаниях за обиды против добрых нравов или о стыдных преступлениях») предполагал равное наказание и мужу, и жене за адюльтер: «...церковное покаяние и содержание в монастыре от шести недель до 3-х месяцев». [82] Абрашкевич М. М. О прелюбодеянии... С. 442.
В Своде законов 1832 г. предпринята еще более решительная попытка вывести эти дела из компетенции церкви: дела о прелюбодеянии оставались все еще в ведении духовного суда. То, что касалось морали и нравственности, церковь не собиралась отдавать на откуп светской власти. Свои установления она отождествляла с верностью православию и — шире — христианству.
Читать дальше