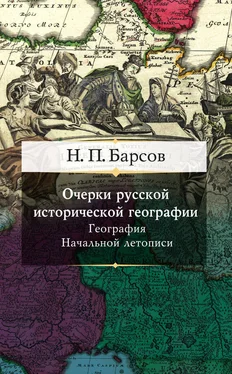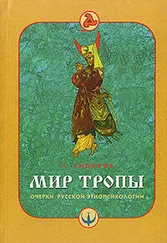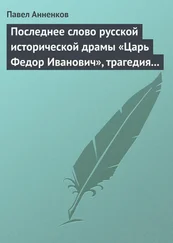Самый характер нашей первой летописи ручается за то, что она передала с достаточной полнотой географические понятия и представления своего времени по крайней мере по отношению к той территории, на которой был призван жить и действовать русский народ. В том виде, в каком она дошла до нас, она возникла в начале ХII века, в ту переходную эпоху, когда только что окончился «великий труд», по выражению Ярослава, первых князей – собрание восточнославянских племен в одно государство, когда эти племена слились уже в единый народ под влиянием княжеской власти, церковных учреждений и возникавшего образования и когда едва только начинал утверждаться удельный порядок, впоследствии расчленивший молодое государство на независимые друг от друга княжения. Это было время преобладания идеи единства русской земли, выражавшейся и в политических отношениях, и в начинавшейся литературе. Местные областные интересы, развитые удельной жизнью Руси, еще молчали. Нестор оканчивал свой труд в то время, когда постановлением Любецкого сейма князья впервые признали наследственность уделов и тем упрочили их дальнейшее обособление, но когда утвержденный ими порядок принадлежал еще будущему. Как выражение народного самосознания Начальная летопись вся проникнута этой идеей единства, сознанием целости русской земли. Она не ограничивается интересами какой-нибудь одной области уже тогда обширного государства, но заносит на свои страницы все, что можно было узнать из народного предания и немногих письменных источников о прошедших судьбах всего русского народа. Она чужда областной исключительности, и, если она останавливается чаще всего на Киеве, то только потому, что туда тяготели события, и там сильнее всего бился пульс русской исторической жизни. Ее рассказ обнимает все пространство Русского государства, и, следя за отношениями его к соседям, – весь известный тогда на Руси мир. Впрочем, при рассмотрении ее как географического источника, открываются некоторые затруднения. Как известно, Начальная летопись есть не что иное, как летописный свод, составленный из отдельных сказаний, заметок, официальных документов и местных известий 1. Древнейший текст ее дошел до нас в так называемом Лаврентьевском списке, сделанном в 1377 году в Суздальском княжестве монахом Лаврентием. Из приписки, находящейся в нем под 1110 годом, видно, что рассказ о событиях до этого года писан игуменом Киевского Свято-Михайловского монастыря Сильвестром в 1116 году. Трудно решить, был ли игумен Сильвестр только переписчиком, или же вместе с тем и составителем всего свода, давшим ему ту редакцию, в какой он дошел до нас в многочисленных списках. Последнее вероятнее 2, хотя различие разных списков дает основание полагать, что позднейшие переписчики и компиляторы не довольствовались Сильвестровской редакцией свода и изменяли ее вставками и сокращениями. В основание его положены «повести временных лет», которые, судя по их заглавию 3, должны были заключать в себе сказания о славянах до образования Русского государства, о призвании варягов, о первых киевских князьях. По всей вероятности «Повести» составляли первоначально цельное изложение и только впоследствии были разбиты по годам, дополнены и распространены отдельными сказаниями, местными известиями (Киевомонастырскими, Ростовскими, Новгородскими, Черниговскими) и извлечениями из греческих хронографов. Вследствие того в настоящее время едва ли возможно определить не только первоначальный вид, но и самый объем их, кем именно из русских князей оканчивался рассказ о том, «кто в Киеве нача первее княжити и откуда русская земля стала есть». Также разнообразно и по содержанию и по характеру продолжение «Повестей» или, вернее сказать, другая часть Сильвестровского свода. Рядом с краткими погодными заметками мы имеем в нем подробное изложение событий в отдельных сказаниях, рассказы очевидцев и литературные памятники («Поучение Мономаха», его письмо к Олегу). Видно, что все это вошло в свод в своем первоначальном виде, что составитель вносил в него имевшиеся под рукой материалы целиком, располагая их в хронологическом порядке. В этой массе разнообразных и разъединенных фактов личность летописца теряется. Исследователь не имеет возможности судить ни о его подготовке, ни о средствах, которыми он располагал для своего труда. Этот важный пробел представляет значительные затруднения, между прочим, и для изучения летописной географии. Имея дело с летописным трудом одного человека, было бы возможно приурочить открывающийся в нем круг географических знаний к определенному времени и месту и отделить то, что летописец мог почерпнуть из народного предания и письменных источников, от того, что он знал по личным наблюдениям, что принадлежит собственно ему, тем самым с большей точностью восстановить географический кругозор времени, в которое он жил. Теперь же приходится иметь дело с разновременными географическими данными весьма продолжительной эпохи, обнимающей с лишком два с половиной столетия. Сверх того разновременные списки, в которых дошла до нас Начальная летопись, не одинаковы: в одних сообщаются факты, о которых умалчивают другие, или передается подробно то, что в других рассказано кратко. Никоновский, например, список гораздо полнее Лаврентьевского, а Татищевский свод так богат данными, не известными древнейшим из дошедших до нас списков, что именно это богатство навлекло на него подозрение в подлоге, подозрение, до сей поры еще не рассеянное, но в то же время и не оправданное исторической критикой 4. Очевидно, что позднейшие переписчики передавали Сильвестровский свод – одни вполне, другие в сокращении, а компиляторы имели, может быть, под рукой и такие источники, каких не знал или оставил без внимания составитель первоначального свода. Все это заставляет нас иметь постоянно в виду все – даже позднейшие – списки Начальной летописи, не ограничиваясь одним только древнейшим Лаврентьевским, хотя и при этом необходимо будет обращаться за разъяснениями к свидетельствам позднейшего времени и придется во многом ограничиться одними предположениями и догадками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу