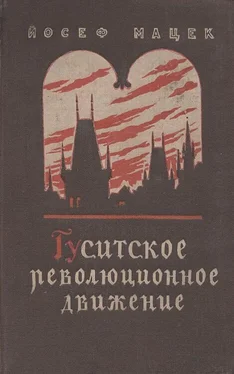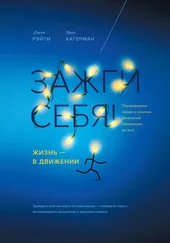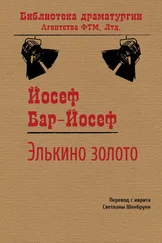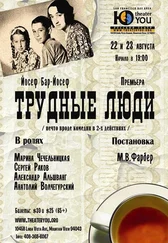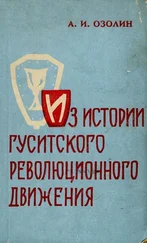Можно ли в таком случае гуситское революционное движение рассматривать подобно крестьянской войне в духе гениальных характеристик Маркса и Энгельса — как раннюю стадию буржуазной революции — или же, может быть, его следует рассматривать просто как крестьянское восстание? Посмотрим, что было движущей силой гуситского революционного движения и что было его ведущей силой. Нет сомнений в том, что движущей силой были наиболее эксплуатируемые элементы чешского общества XV века — крестьянство и городская беднота. Уход в горы, деятельность Желивского в Праге, основание Табора — в целом все это результат вступления в борьбу крестьянства и городской бедноты. Это они начали гуситское революционное движение. Походные войска, объединявшие бедноту и крестьянство, на всем протяжении революционного движения высоко держали боевое знамя с красной чашей, именно они проливали кровь за четыре пражские статьи, за программу бюргерской оппозиции. В битве у Липан именно из рук «божьих бойцов», то есть из рук крестьян и городских бедняков, вырвали знамя революции. Хотя в результате революционной борьбы был устранен крупнейший эксплуататор — церковь, ее место заняли паны, рыцари и бюргеры, которые скоро в деле угнетения народа пошли по стопам своего предшественника — церкви.
Напротив, организатором, гегемоном, ведущей силой гуситского революционного движения была бюргерская оппозиция (то есть бюргерство и низшее дворянство), если не считать 1420 года, когда ведущую роль в Таборе играла беднота, которая начала проводить в жизнь принцип общности имуществ. Программа бюргерской оппозиции, изложенная в четырех пражских статьях, была направлена против феодализма, тем не менее бюргерство не ставило своей целью ликвидацию феодализма, ему нужно было только реформировать феодальный строй, заняв в нем более прочные позиции. Тем не менее, не следует забывать, что четыре статьи (в особенности третья и четвертая) были направлены против церкви, то есть против самого крупного феодала. Реформаторская программа бюргерской оппозиции приобретала революционный характер, поскольку движущей силой гуситского революционного движения были городская беднота и крестьянство, имевшие все основания быть недовольными феодальным порядком, который, согласно учению церкви, был установлен самим богом. Энгельс в «Крестьянской войне в Германии» с едкой иронией характеризует политическую концепцию склонной к компромиссу и утилитаризму бюргерской оппозиции: «Мы ниже увидим, что эта «умеренная», «стоящая на почве закона», «весьма обеспеченная» и «интеллигентная» оппозиция играла в движении XVI века точно такую же роль и с точно таким же успехом, как и ее наследница, конституционная партия, в движении 1848 и 1849 годов» [198] Ф. Энгельс, Крестьянская война в Германии, Госполитиздат, М., 1952, стр. 28.
. Таким образом, Энгельс проводит прямую аналогию между бюргерской оппозицией периода крестьянской войны в Германии и немецкой буржуазией, указывая, что стремление к компромиссу, политической спекуляции и двурушничеству является отличительной чертой бюргерства с первых его шагов на исторической сцене. Отношение буржуазии к революции носило тот же характер. «Буржуазии выгодно, чтобы буржуазная революция не смела слишком решительно все остатки старины, а оставила некоторые из них, т. е. чтобы эта революция была не вполне последовательна, не дошла до конца, ее была решительна и беспощадна» [199] В. И. Ленин, Соч., т. 9, стр. 34.
. Стоит проследить позицию гуситской бюргерской оппозиции по отношению к революционным силам, которые в конечном счете отстаивали ее же требования, чтобы понять, что эта позиция совершенно идентична позиции буржуазии. Вспомним все попытки создания панского союза, в котором бюргерство играло ведущую роль — с начала революционного движения до самых Липан, когда пражские бюргеры открыто встали во главе контрреволюционных сил. Политическая позиция бюргерства, этой ведущей силы гуситского революционного движения, во многих отношениях тождественна позиции буржуазии во время буржуазных революций. Несмотря на то, что с самого начала бюргерство выступало в качестве организатора революционного движения (сосредоточение движения в пяти городах, городские союзы!), оно не хотело предоставить «божьим бойцам» полную свободу в борьбе с феодалами, намереваясь использовать революционную энергию широких народных масс для осуществления своих ограниченных и половинчатых классовых требований. Мера революционности этих требований зависела от экономической зрелости бюргерства. Конечно, нельзя говорить о существовании в тот период капиталистических отношений. Самое большее, о чем можно говорить, это о создании предпосылок для этих отношений в виде производства товаров для пражского рынка, развития денежного обращения и накопления торгового капитала. Для развития ремесла, не выходившего за рамки цеховых ограничений, феодальный строй не был препятствием, которое во что бы то ни стало нужно ликвидировать, — он нуждался только в исправлении. Поэтому и программа горожан в гуситском революционном движении значительно уступает программе буржуазных революций (английской и французской) и довольно близка программе бюргерской оппозиции в Германии в период крестьянской войны. Впрочем, эти требования вырастают из одного общего корня — революционного сопротивления феодализму.
Читать дальше