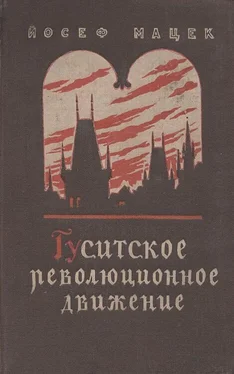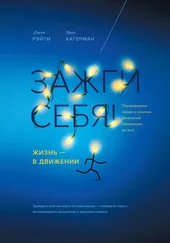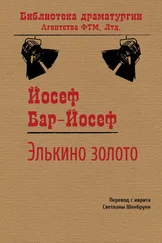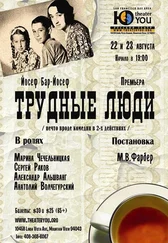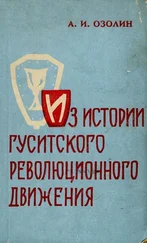Получать бенефиции и связанные с ними доходы становилось делом нелегким. Каждому хотелось бы стать священником и привольно жить за счет сборов и «помощи» верующих. Люди шли в священники совсем не из-за стремления «следовать Христу в смирении и бедности», ими руководило желание разбогатеть. «У духовенства становится больше добра, а потому растет число учеников и священников, ибо каждый хочет легко жить и богатеть» [17] M. Jan Hus, O svatokupectví, str. 447.
.
Не удивительно, что на церковных должностях сидели люди, представлявшие прямую противоположность «христовым апостолам», хотя они и называли себя их преемниками. «Третий обычай духовенства — раздавать церковные должности родственникам. Есть много владык, которые дают бенефиции приятелям, людям бесчестным, неспособным даже пасти свиней…» [18] Tamtéž.
Распущенность духовенства граничила с бесстыдством, нравственный упадок достиг чудовищных размеров. В конце XIV века была проведена ревизия пражских приходов, имевшая целью выявить и ликвидировать, по крайней море, наиболее вопиющие злоупотребления. Из отчетов этой ревизии мы узнаём о некоем священнике Людвике Кояты из прихода св. Яна в Подскалии: «У него также была возлюбленная, проживавшая в Вышеграде, кроме того, в своем доме, находящемся близ монастыря св. Екатерины, что против школы св. Апполинария, он устроил публичный дом, в котором содержал четырех, иногда шесть и даже восемь проституток, принимавших гостей — со стороны. Помимо того, он был страстным игроком в кости. Он ходил играть в кости на Старое Место в дом Гензла Глазера и Маркеты Плетловой, нередко он проигрывал там всю свою одежду и ночью возвращался нагим в дом своей сожительницы в Вышеграде. Дважды рихтарж [19] Рихтарж — должностное лицо города, судья. — Прим. ред.
Нового Места прогонял его в таком обличье как бродягу, но ему удавалось скрыться в своем доме, что против школы св. Апполинария» [20] О состоянии пражского духовенства см. V. V. Tomek, Dějepis města Prahy, III С, особенно стр. 215 и сл. (Историкам, если не считать Томека, реакционного немецкого историка Хёфлера и клерикально настроенного Неймана, церковными властями не было разрешено заниматься изучением этого источника.)
. Следует добавить, что, по всей вероятности, Людвик Кояты не был исключением; безнравственных церковнослужителей было тогда множество.
С другой стороны, большой приток желающих получить бенефиций и должность священника приводил к тому, что кандидатов было больше, чем свободных мест. Значительно возросло количество низшего духовенства, куда входили священники из бедноты, прежде всего из чешских семей, не имевших средств на покупку бенефиция и вынужденных поступать на службу к бенефициариям в качестве держателей приходов, наниматься в церковные сторожа или становиться бродячими проповедниками. Таким образом произошла дифференциация духовенства, разделившегося на так называемых прелатов, то есть высших служителей церкви, или высшее духовенство ( clerus major ), и низшее духовенство ( clerus minor ), положение которого все более ухудшалось. Голодный и бедствующий проповедник сравнивал «церковь христову» — бедную, смиренную, какой ее описывали в евангелиях, с тогдашней церковью — распущенной и безнравственной, крупнейшим феодальным владельцем. Это вопиющее противоречие показывало, как «далеко зашла церковь». Не удивительно, что именно из рядов низшего бедного духовенства выходили люди, требовавшие исправления церкви, передовые борцы, лучшие организаторы и вожди гуситского народного движения.
Богатства и праздность церковнослужителей дорого обходились народу. Церковь была охвачена глубоким кризисом; деньги превратили ее в огромный международный вертеп, где бесстыдно спекулировали на чувствах верующих людей. Церковные богатства вызывали все большую и большую ненависть не только к местным церковным учреждениям, но и к самому Риму, что способствовало углублению кризиса церкви как института.
Кризис феодальной системы захватил и светских феодалов. Класс светских феодалов не был единым. В зависимости от размеров владений, происхождения и общественного положения светские феодалы делились на высшее дворянство (панство) и низшее дворянство, то есть рыцарей, земанов и паношей [21] Земаны — дворяне, владельцы незначительных участков земли. Паноши — здесь дворяне, владевшие мельчайшими участками. — Прим. ред.
. Паны, так же как и монастыри, стремились к объединению своих распыленных владений. Эти владения в значительной своей части были раздроблены и состояли из отдельных участков, на которых сидели крестьяне. Панство стремилось к тому, чтобы эти участки были расположены близ домениальных земель, на которых велось барское хозяйство. Мы уже видели, что подобные же стремления духовенства наталкивались на сопротивление соседних феодалов. Точно так же усилия какого-либо пана увеличить или округлить свои владения наталкивались на противодействие других феодалов.
Читать дальше