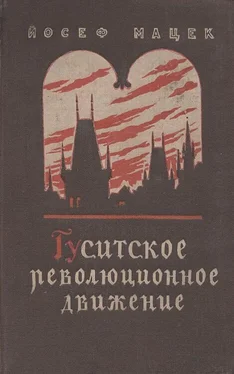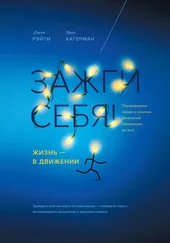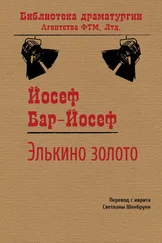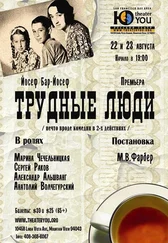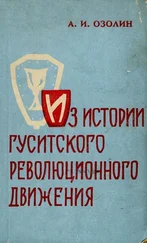Разве они избрали себе суровую жизнь монахов, разве они терпят нужду? Дождь их не мочит, в их владениях нет топких болот, богатство избавило их от голода и жажды, а бедняк повсюду страждет в нужде» [11] M. Jan Hus, Výklad desatera, M. Jana Husi sebrané spisy české, str. 220.
. Не удивительно, что церковные богатства привлекали и взоры светских феодалов, которые нередко совершали разбойничьи нападения на церковные поместья (такие, например, как нападение на Опатовицкий монастырь в 1415 году). Ян Гус ясно указал, откуда идет ненависть к церкви: «Миряне видят, что богатые священники носят одежду более пышную, чем они, что у священников и кони красивей, и стол обильней, и жены прекрасней, что всего — и одежды и оружия — у них больше, чем у мирян. Поэтому многие посягают на их богатства словом или делом, иные из зависти, а иные, как, например, короли и князья, по праву» [12] Tamtéž, str. 182.
.
Церковь, этот крупнейший феодал, богатства которого вызывали зависть светских феодалов, обращалась со своими крепостными куда более жестоко, чем светские магнаты. Помимо обычной барщины церковные феодалы требовали от своих крестьян (или, лучше сказать, выколачивали из них) разного рода дополнительные поборы. В церковных поместьях (главным образом монастырских) эти поборы стали постоянной повинностью крепостного, ибо, кроме всего прочего, монастыри и церкви платили чрезвычайные налоги не только королю — в королевскую палату, но и вышестоящим церковным сановникам. Кроме того, церковь взимала с крестьян так называемую десятину, иными словами, крестьянин должен был отдавать своему «духовному пастырю» десятую часть всех доходов своего хозяйства. Этим, однако, его повинности по отношению к церкви не исчерпывались. За каждый обряд — за крестины, исповедь, погребение — верующие должны были платить церкви. И так всю жизнь — от колыбели до гроба — над ними была простерта жадная рука священника или монаха. «Это за исповедь, это за обедню, это за таинство, это за отпущение грехов, это за проповедь, это за благословение, это на погребение, это за освящение святой водой, это за молитву. И последний грош, который бабушка завязала в платочек, чтобы ни разбойник, ни вор не нашли его, и этот грош отнимут у нее…» [13] M. Jan Hus, Výklad desatera, str. 220.
Подобными вымогательствами церковь возбудила ненависть к себе во всех слоях общества. Служители церкви хозяйничали и в городах, они спекулировали незаложенными монастырскими поместьями и получали с владельцев домов фиксированные проценты — вечную ренту, что опустошало карманы бюргеров. Мелкие ремесленники также вынуждены были закладывать дома и из года в год выплачивать своим кредиторам (церковным магнатам или патрициату) проценты; таким образом, должники несли тяжкое бремя наследственной (пожизненной или вечной) ренты.
Богатые прелаты нередко ссужали бюргерам необходимые им средства, несмотря на то, что церковное право запрещало духовенству заниматься ростовщическими операциями. Ренты, богатство, привилегии — все это приводило к засилию церкви в городах и вызывало неприязнь к ней населения этих городов. «Подобно тому как в настоящее время буржуазия требует дешевого правительства — gouvernement à bon marché , — пишет Энгельс, — точно так же и средневековые бюргеры требовали прежде всего дешевой церкви — église à bon marché » [14] Ф. Энгельс, Крестьянская война в Германии, Госполитиздат, М., 1952, стр. 35.
. Таким образом, церковь возбуждала ненависть не только у крепостных и феодалов, но и у горожан. Всеобщая неприязнь к церкви усиливалась также в результате наглой финансовой политики папской курии, в результате упадка и разложения, которые переживала церковь.
С тех пор как римский епископ постепенно превратился в главу католической церкви, крепкие узы связали церковные организации всего христианского мира с Римом. В XIV и XV веках практически уже не существовало ни одной доходной церковной должности, на которую не распространялась бы юрисдикция римского папы. Папский дворец в Риме (а с начала XIV века — в Авиньоне) кишмя кишел сановниками, должностными лицами и прочими тунеядцами, вся эта орда поглощала буквально целые реки золота, дабы обеспечить себе возможность вести роскошный образ жизни. Чтобы содержать эту орду и финансировать различные политические и военные кампании, папа взимал деньги со своей паствы. Существовала крылатая фраза: «Римская курия пасет овечек тогда, когда у них отрастает шерсть» [15] Это выражение, часто встречающееся в средневековой литературе, например в хронике Петра Житавского (FRBy IV, str. 300).
. Наместник святого Петра везде, по всему миру, раскинул сети для ловли золотых. Каждая церковная должность, каждая церковная привилегия, превращенные в товар, служили источником неисчислимых доходов и объектом всевозможных мошеннических проделок. В Риме вокруг папского двора собрались наиболее алчные ростовщики, которые, как липку, обдирали верующего, попавшего в их руки. В сатирической литературе того времени обличаются «богоугодные, христианнейшие проделки святых отцов»:
Читать дальше