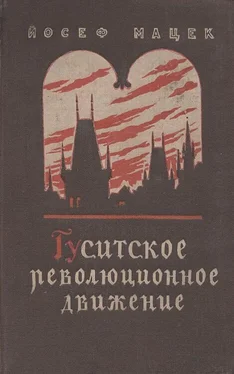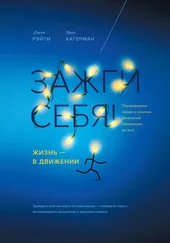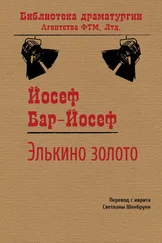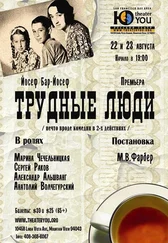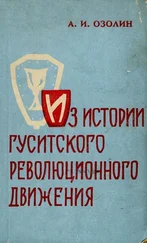Помимо основных податей, крестьяне были задавлены множеством мелких повинностей. Крепостные должны были поставлять продовольствие, фураж и скот во время войн и частых феодальных усобиц, нести военную службу, ремонтировать дороги, оказывать мелкие услуги во время панских игр и развлечений — все это входило в их «обязанности». Впрочем, феодал не обращал внимания ни на сложившиеся обычаи, ни на письменные соглашения. Если ему что-либо было нужно, он просто брал это у крепостных; если ему нужны были ловчие для охоты или поденщики, он посылал за ними в деревню. «А члены святой церкви тянут с крестьян в таком размере, что невозможно наложить на крепостных новый оброк или придумать им какую-либо новую отработку, а сами они, сидя в холодке, смеются над этими холопами, изнывающими на жаре, или их, плохо одетых, выгоняют в сильный мороз на зайцев, а сами в этом время сидят в тепле» [36] P. Chelčický, O cierkvi svaté, str. 85.
.
Но даже и после того, как крепостной выполнял все эти повинности, его не оставляли в покое.
За светским феодалом приходил священнослужитель. Священники стригли свою паству и брали со всякого имущества десятую часть, которую они выколачивали с необычайной жестокостью. «Горе грабителям, бессердечным панам, — восклицает Ян Гус, — но хуже всего придется священникам, которые притесняют и душат бедняков, когда те не могут заплатить десятину, и теснят их, чтобы выжать из них плату за требу» [37] M. Jan Hus, Postilla, str. 392.
.
Однако повинности крестьян по отношению к церкви не ограничивались десятиной. Мы уже приводили высказывание Яна Гуса о том, что простой верующий должен был платить церкви с колыбели до гроба, в час рождения и в час смерти. Предприимчивые священники и прелаты при помощи «чудес» — «кровоточащих просфор», «явления девы Марии» и т. д. — умели завлекать паломников в церкви, а собирая милостыню и требуя дарений, отнимали у простых людей последний грош. «А потому так много развелось различного рода монахов, каноников, крестоносцев, законников и иных священников, которые, подобно панам, хорошо едят и пьют, богато одеваются, строят себе высокие дома и хоромы и тунеядствуют. И все это ценой пота и крови крепостной общины, путем измышлений и лжи; община для них не член единого тела, а пес, служащий им на посмешище» [38] P. Chelčický, O trojím lidu, str. 72.
. Эта мрачная картина, нарисованная Хельчицким, наглядно показывает, что простой крестьянин действительно получал «множество благодеяний» от святой церкви.
Невыносимо тяжкие страдания крестьянства в пред-гуситский период были основной темой, к которой обращались в своих трактатах мыслители и писатели. Наблюдая мученическую жизнь, нужду и страдания одних, тунеядство, роскошь и разврат других, они приходили к выводу о необходимости изменить существующее положение и призывали к преобразованиям. Те проповедники и ученые, которые вышли из народа, знали его нужды, не закрывали глаз на весь ужас его положения. Именно они подняли голос протеста.
Реформаторская литература конца XIV и начала XV века откликнулась на страдания и бедствия простого народа. Петр Хельчицкий, сравнив страшную действительность с представлением об идеальном общественном строе, пришел в своем трактате «О трехчленном народе» к выводу, что равенства между «тремя сословиями» в отношении прав и обязанностей в действительности не существует, что эксплуатируемый трудовой народ принужден потом своим и кровью питать два высших сословия. «И если уже исходить из того положения, что раз страдает один член тела, с ним вместе должны страдать все члены, то как же тогда объяснить тот факт, что одни, держащие меч, попирают, мучают, истязают и заточают в тюрьмы, обременяют барщиной малых сих так, что те едва держатся на ногах, а угнетатели бродят, как раскормленные кони, сытые и праздные, насмехаются над ними, а священники, как острые глаза на этом теле, смотрят во все стороны, чтобы еще содрать, и все вместе— паны и священники — ездят на трудовом народе, как им заблагорассудится. Как далеко ушли они от учения святого Павла, изрекшего, чтобы все члены страдали в случае бедствия какого-либо одного члена. Одни плачут, потому что их бьют, сажают в тюрьмы, обыскивают, другие же — насмехаются над их бедой» [39] Tamtéž, str. 65.
. Буржуазные историки приукрашивали положение крестьян в конце XIV и начале XV века, которое в действительности все больше и больше ухудшалось. В. Халоупецкий, ученик Пекаржа, в популярной работе «Сельский вопрос в гуситстве» [40] V. Chaloupecký, Selská otázka y husitství, Bratislava 1916.
посвятил положению чешской деревни накануне 1419 года всего лишь 50 страниц, тем не менее данный им «анализ» послужил основой, из которой исходили в своих писаниях прочие буржуазные историки и прежде всего Пекарж. Правда, Халоупецкий, исходя главным образом из высказываний реформаторов, начиная с Вальдгаузера и кончая Гусом, подробно показал те бедствия и страдания, которые выпали на долю чешского крестьянства, но его выводы противоречат тому материалу, который он сам же собрал, Халоупецкий обращал внимание главным образом на правовую сторону взаимоотношений крепостных и феодалов, уделив экономическому положению крепостных всего лишь несколько беглых фраз [41] Tamtéž, str. 13–15.
. Это-то и дало ему возможность говорить об относительно благополучном положении крепостных. При этом Халоупецкий стоял на позициях наивного идеализма. Достаточно процитировать несколько его высказываний, чтобы понять, почему его взгляд является совершенно ошибочным. Гуситство, по его мнению, порождено «западными идеями и устремлениями» [42] Tamtéž, str. 5.
. Гуситы — прямые наследники запада [43] Tamtéž, str. 6.
, гуситское время «движется идеей» [44] Tamtéž, str. 6.
, а народ «живет под воздействием выступлений и трактатов» [45] Tamtéž, str. 7.
. Этот идеализм достигает кульминационного пункта в объяснении причин перехода к действиям, к гуситской революции; причины эти Халоупецкий усматривает в «свойствах чешской души с ее несколько наивной, но истинно прекрасной мечтой об осуществлении гуманных стремлений» [46] Tamtéž, str. 23.
. В действительности произведения Халоупецкого отражают космополитизм чешской буржуазии, объединившейся с империалистами Запада; буржуазные историки, прикрываясь идеалистической фразеологией, стремятся фальсифицировать данные о положении чешского крестьянства, затушевать классовые противоречия и классовую борьбу, предать забвению революционные традиции чешского народа.
Читать дальше